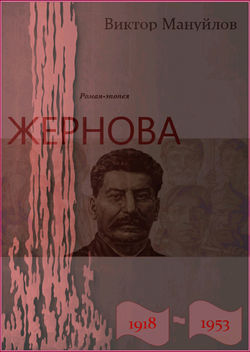Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана - Виктор Мануйлов - Страница 22
Часть 43
Глава 22
ОглавлениеПервая смена давно свое отработала, и Франц Дитерикс может быть свободен, то есть пойти в заводскую столовую, пока она не закрылась, поужинать там по спецталону и отправляться домой. А он вместо этого возбужденно мечется по кабинету главного технолога завода камрада Всеношного и, путая русские слова с немецкими, размахивая руками, пытается втолковать хозяину кабинета прописную, как кажется Францу Дитериксу, истину: так, как работают на этом заводе, работать нельзя.
– Это не есть технологие! – вскрикивает он. – Это есть вильдхайт![1] Мы есть отставать капиталисмус! Это есть нарушений Маркс! Это есть… – Не находя слов, он трясет в воздухе руками, трясет плешивой головой и делает круглые глаза.
– Вы напрасно так переживаете, Федор Карлович, – уже который раз устало повторяет главный технолог завода Петр Степанович Всеношный, тоже плешивый и вообще ужасно похожий на Франца Дитерикса: круглое лицо, мясистый нос и оттопыренные уши. Правда, на этом похожесть исчерпывается, и стоит Петру Степановичу встать из-за стола, как он на голову возвышается над немцем. Да и постарше его лет эдак на десять, лицо изборождено глубокими морщинами, в тусклых глазах не заметно того энтузиазма, который так и брызжет из серо-голубых глаз Дитерикса, зато там таится, похожая на плесень, обреченность до конца тянуть свой воз, обходя колдобины и ямы, сдерживаясь на крутых спусках и поворотах.
По всему видно, что разговор с Дитериксом тяготит Петра Степановича, потому что он, в свою очередь, не может втолковать немцу, что в Советском Союзе все построено на строгом государственном планировании, что строгий план есть и у завода, что план – это закон, что если они остановят производство на несколько минут – уже чепэ, а чтобы остановить на две недели – и разговора быть не может. При этом он, главный технолог, понимает, что, изменив технологию, они потом наверстают упущенное время за счет более высокой производительности и снижения брака, но принимать решение будут наверху, а для них это не самое главное. И потом: рабочие уже привыкли к существующим условиям труда, менять условия – менять расценки, переучивать людей, часть из них высвободится, возникнут проблемы, а это уже вопрос не столько технологии, сколько социальной политики…
– Рабочие привыкать! А? Рабочие привыкать! – снова вскидывает вверх руки Дитерикс. – Это не есть аргументен! Капиталисмус аух[2] есть привыкать, абер[3] социалисмус есть не привыкать, он имеет тенденц, имеет… э-э… айн нейгунг[4]… побеждать… Энгельс… э-э… санкционирт… социалисмус есть прогрез… капиталисмус нихт есть прогрез… – и дальше Дитерикс пошел чесать почти сплошь по-немецки.
Петр Степанович уныло смотрит на немца, зная, что пока тот не выговорится, его не остановить. Такие сцены в этом кабинете случаются раза два в месяц, когда Дитерикс столкнется с какой-нибудь неразрешимой, по его понятиям, технической или технологической проблемой, если чего-то не изменить в них коренным образом. У него прямо-таки мания к коренным изменениям.
Предложения немца были бы верными во всех отношениях, если, скажем, иметь в виду заводы Круппа или Тиссена. Но он ни черта не смыслит в советской действительности и уже порядком надоел со своими «айне нойетехнологие»… Фу, чтоб ему черт, этому фрицу: понаслушаешься его и сам начинаешь ломать язык и подстраиваться под его немецкую тарабарщину!.. Да, так вот: ему хорошо предлагать новую технологию, а пошел бы он к директору завода генералу Охлопкову… А там еще парторг ЦК Горилый Павел Демьянович, который в этих технологиях не смыслит ни черта, зато смыслит во всяких накачках по поводу выполнения и перевыполнения планов и соцобязательств. Вот пошел бы он к ним, а Петр Степанович посмотрел бы, что из этого получится. Выслушать-то они, конечно, выслушают, а только, даже если бы и захотели что-то изменить, то по своей воле – ни-ни, а чтобы с такими пустяками к министру, никому из них и в голову не придет. Так что пустой это номер – толкаться к кому бы то ни было со своими идеями. Сами же идеи тоже запланированы и должны возникать и осуществляться своим чередом, потому что изменения на одном заводе потребуют изменений на других, связанных одной технологической цепочкой, и, таким образом, все покатится, как снежный ком, а это уже анархия, а не плановое производство.
Франца Дитерикса подсунули Петру Степановичу более года назад и велели взять над ним шефство. Вот Петр Степанович и мается с тех пор с этим немцем, сдерживая его модернизаторские порывы.
Если по совести, то ехал бы этот фриц к себе домой и не путался под ногами. Так ведь не объяснишь и не посоветуешь. Опять же, передавая Всеношному Дитерикса под покровительство, Петра Степановича предупредили: «Пусть немец работает, но никаких связей с окружающими не допускать, в политическую полемику с ним не вступать, потому что Дитерикс – бывший социал-демократ, следовательно, с гнильцой и нездоровым образом мыслей. Работа и только работа».
Но Дитерикс просто работать не хочет, он всюду сует свой нос, и только плохое знание русского языка сдерживает его прыть. Зато всю свою энергию и желчь он выплескивает на Петра Степановича Всеношного, который когда-то знал немецкий хорошо, но без практики подзабыл основательно.
Петр Степанович уныло смотрит на Дитерикса и ждет, когда тот выговорится. Но тот все говорит и говорит и никак не может остановиться. Он смешал в кучу Маркса и Ленина, Бернштейна и Сталина, Круппа и директора завода генерала Охлопкова. Их имена так легко слетают с его языка, словно у Дитерикса имеется на руках специальное разрешение манипулировать этими именами, как ему вздумается.
Иногда Петру Степановичу закрадывается в голову мысль, что немца ему подсунули специально, чтобы выявить его, главного технолога завода, истинные мысли и припереть к стенке. Потому что, по слухам, на заводе собираются изготавливать, вдобавок ко всему, детали танков наиновейшей конструкции, и теперь прощупывают персонал завода на предмет идейной стойкости и преданности. Мысль эта – в смысле проверки благонадежности – иногда представляется Петру Степановичу абсурдной, но иногда и вполне здравой, хотя уж кто-кто, а он-то, кажется, за годы пятилеток и особенно войны доказал советской власти все, что надо и не надо было доказывать.
Три года войны Петр Степанович провел на Урале, в городе, где снег черен от копоти и гари. Это время врезалось в его память не только первыми месяцами неразберихи и истерического понукания, но и возвращения к здравому смыслу. Как-то сразу исчезли погоняльщики, знавшие толк в одних лишь победных реляциях, и власть постепенно перешла к техническим спецам. Это было время всеобщего единения, неподдельного энтузиазма и точных технических расчетов.
Как работали тогда! Боже мой, как работали! Разве расскажешь об этом Дитериксу! Разве он поймет!
Затем, в начале сорок четвертого, возвращение в Донбасс, в Константиновку, где их ждали горы битого кирпича и металлолома, во что превратили немцы лишь слегка разрушенные заводы при отступлении; восстановление этих заводов, выпуск первой продукции. Минуло три года – жизнь постепенно налаживается, жизнь скудная, на грани нищеты, но с проблесками изменения к лучшему.
Увы, едва отпраздновали победу, снова появились люди в коже, но не в куртках, как сразу же после революции, а в длинных скрипучих и блестящих кожаных пальто. И куда что подевалось. Словно вернулись двадцатые годы. Только тогда говорили о победе над четырнадцатью государствами Антанты, а сегодня – о победе над мировым фашизмом, которая стала возможна благодаря тому, что было достигнуто за минувшие годы, и, следовательно, менять ничего не надо.
А если вспомнить давнее, оставшееся за спиной Петра Степановича, о котором лучше и не вспоминать, то всего этого хватило с лихвой, чтобы потерять вкус ко всяким кардинальным изменениям. Затем одно за другим извещения о гибели сыновей, смерть жены, не выдержавшей всех свалившихся на нее напастей. Осталась дочь, но она живет далеко, да внуки с невестками, но тоже в других краях. И вот он один на этой земле, никому до него нет дела, и хотя Петру Степановичу еще нет шестидесяти, чувствует он себя столетним старцем, немощным и ко всему безразличным, уставшим и надломленным. Да разве он один такой! На кого ни посмотришь, – даже на молодых, даже на генерала Охлопкова и парторга ЦК Горилого, – с кем ни заговоришь, сразу же почувствуешь эту безмерную усталость, накопившуюся за годы бешеной гонки, лишений и невзгод. Казалось: вот кончится война и все сразу же изменится к лучшему, потому что какое еще можно придумать наказание народу, столь терпеливому и безответному, что иногда задумаешься: а этот ли народ в семнадцатом поднялся на страшный бунт, а в сорок первом – на еще более страшную войну? И неужели этого мало для понимания, что нельзя до бесконечности испытывать его долготерпение?
Устал и поизносился Петр Степанович, во сне и наяву мерещится ему покой. Слава богу, до пенсии осталось немного, он плюнет на все эти технологии, соцсоревнования, соцобязательства и прочую муру, уедет в деревню, к сестре, будет возиться с садом-огородом, сидеть на зорьке с удочкой у тихого ставка, слушать щебет птиц и ни о чем не думать. Это не какие-то там двадцать четыре дня в году трудового отпуска, которые пролетают одним мгновением, а всю оставшуюся жизнь. И кажется Петру Степановичу, что жизни ему осталось слишком много, а это, если разобраться, тоже сущее наказание, потому что мысли об ушедших из жизни раньше положенного срока близких ему людей не оставят его в покое, отравят его вожделенное одиночество. На заводе он так занят, что некогда подумать даже о себе, и это, наверное, благо, а что мечтает о покое, так оттого, чтобы не думать об ушедших, а когда не о чем станет мечтать, во что превратится его жизнь?
Дитерикс задал какой-то вопрос, Петр Степанович встрепенулся, посмотрел в сторону немца пасмурными глазами, подумал: «И все-то нас, русских, учат жить, всё-то мы, по их понятиям, делаем не так. Они и войну-то начали от этих самых своих о нас представлений, а мы оказались совсем не теми, на их представления не похожими». И глухая ненависть к немцу захлестнула горло Петру Степановичу проволочной удавкой, он отвернулся и закашлялся, чтобы Дитерикс не видел его глаз, не слышал его пронизанного ненавистью голоса.
Откашлявшись, Петр Степанович закурил папиросу, забыв предложить немцу, и вновь принял озабоченный вид. Слушая длинные монологи Дитерикса, он никак не мог сообразить, надо ли ему поддакивать или, наоборот, возражать? А может, бежать в партком и докладывать, чтобы упредить немца? Или делать вид, что он настолько позабыл немецкий, что не понимает всех тех крамольных высказываний, которые из Дитерикса сыплются, как благие вести из репродуктора?
Наконец Дитерикс утих, перестал метаться по кабинету, устроился возле окна и принялся смолить вонючий самосад, который сам же и выращивает у себя на балконе, чем гордится неимоверно. Мысли его, тоже унылые после того как он выговорился, текли теперь в одном направлении: зря он остался, ничем он тут помочь не сможет: дикая страна, дикий и вывернутый наизнанку социалисмус, лишенный какого-то важного стержня. Может, дело все в том, что так называемая славянская душа приняла из социализма Маркса только то, что ей соответствовало, отвечало ее природе? Так ребенок, попав за обеденный стол, тянется сразу к сладкому, вместо того чтобы начать с супа. А к чему тянутся эти русские, если они вообще к чему-нибудь тянутся, Дитерикс, сколько ни пытался, понять не мог. Правда, сами русские говорят, что для этого надо съесть с ними ни один пуд соли, но в жизни все должно быть разумно и доступно для понимания любого здравомыслящего человека, соответствовать именно человеческой природе, а не чему-то мифическому и не поддающемуся осмыслению.
Нет, Франц Дитерикс готов примириться с какими-то привычками и обычаями, как, например, плевать и сморкаться на пол, даже если рядом стоит плевательница, а в кармане лежит носовой платок. Бог с ними. Главное, чтобы самому не заразиться этими привычками. Но у русских слишком много дурных привычек; иногда создается впечатление, что во всех сферах своей деятельности они руководствуются привычками, а не здравым смыслом. Так, они по привычке берут в руки лопату и лом, когда рядом простаивает бульдозер; они по привычке хлопают всему, что бы им ни говорили с трибуны, и даже не разбирая слов… А еще привычка ко всяким собраниям и совещаниям, к резолюциям и постановлениям, которые никто не читает и, разумеется, никто не выполняет; привычка не выключать свет, бросать что попало и где попало, так что не пройти и не проехать… Очень уж много у русских вредных привычек, к которым трудно привыкнуть западному человеку, но еще труднее эти привычки объяснить, сколько бы соли ты с ними ни съел.
Дитерикс не испытывал к русским той неприязни, которую должен бы испытывать побежденный к победителю. Может, потому, что повоевать ему пришлось совсем немного, с месяц всего, и не против русских, а против американцев, и на Восточный фронт он попал из тех мест, где теперь хозяйничают американцы и англичане. Дитериксу довелось испытать на себе их ковровые бомбежки, в одной из которых погибла его семья, проезжать через те немецкие города, которые были разрушены их, а не русской, авиацией. Он уже тогда знал, что война проиграна, видел ее бессмысленность, но стрелял до самого конца. Затем их батальон был переброшен на Восточный фронт и там, по дороге к передовой, перемолот русскими «катюшами», после чего оглохший и очумелый Франц Дитерикс поднял вверх руки, однако с сознанием до конца исполненного долга.
Только в плену, в России, Дитерикс понял, чем была война на самом деле, разглядел русских в их повседневности и пришел к выводу виновности германской нации перед нацией славян. И решил поставить здешнее допотопное производство на современные технические и технологические рельсы.
Увы, его не сразу поняли, его не хотели оставлять. Ему говорили, что новой Германии, Германии рабочих и крестьян, тоже нужны специалисты. Аргументом, который перевесил все, оказался такой малозначительный по большому счету факт, что на родине его никто не ждет. В этом, видимо, и сказалась таинственная русская душа. Но, вместо технолога, Дитерикса фактически сделали механиком, в обязанности которого входит поддерживать в рабочем состоянии ненавистное ему старье, годное лишь в металлолом. И не видно, чтобы это старье собирались менять на что-то новое в обозримом будущем. А без нового какой же может быть прогресс? Никакого. И вот тут-то никакие аргументы не действовали. Даже попытки воздействовать на русскую душу.
Докурив самокрутку, Дитерикс повернулся к Петру Степановичу, вяло повел рукой.
– Нун, гут[5], – произнес он. – Ви извинить мих… э-э… мне майн… э-э… Как это по-русски?
– Ничего, ничего! Нихтс![6] – поспешил успокоить его Петр Степанович. – Я все понимать… Э-э, их ферштее зих, абер[7]…
Он поискал немецкие слова, но побоялся, что не сможет правильно выразить свои мысли, а неправильно выраженные мысли могут быть неправильно же истолкованы, так что лучше никаких мыслей, – вздохнул и перешел к технической стороне дела, которое сводилось в основном к ремонту, запасным деталям и профилактике. Немецкая техническая терминология в голове Петра Степановича еще держалась, как ни странно, аж с тех дореволюционных времен, когда он, Петька Всеношный, выпускник Московского технологического института, был направлен в Германию на производственную практику. Шел 1912 год. Какое хорошее и доброе было время. Как бы опираясь на это далекое время, Петр Степанович и Дитерикс быстро договорились.
1
Вильдхайт – дикость (нем.)
2
Аух – тоже.
3
Абер – но.
4
Айн нейгунг – склонность.
5
Нун, гут – ну, хорошо.
6
Нихтс – ничего, неважно.
7
Их ферштее зих, абер… – я понимаю вас, но…