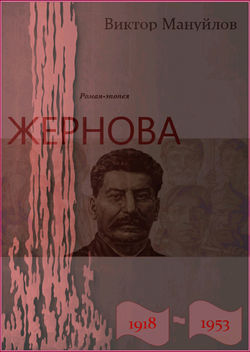Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана - Виктор Мануйлов - Страница 28
Часть 43
Глава 28
ОглавлениеПосле вызова в военкомат, где Олесича допрашивали два следователя из Москвы, прошло больше месяца. Вызывали его и еще, но под конец уже свои, местные особисты-эмгебисты, которых, однако, по старой памяти Олесич все еще называл гепеушниками-энкэвэдушниками, где уши рифмовались с душами. И те, московские, и свои – все ходили вокруг да около, и получалось, будто они знают доподлинно, что это именно он, Олесич, застрелил старшего лейтенанта Кривоносова, но это им совершенно ни к чему, это для них не самое главное и наказывать его за это никто не собирается. Олесича напрямую о стычке с диверсантами уже никто не выспрашивал, заставляя вспоминать все новые и новые подробности, предшествующие стычке, и где-то, на каком-то этапе дела Олесич сам начал подыгрывать – в том смысле, что очень даже может быть, что старший лейтенант Кривоносов что-то знал такое хотя бы даже и о том же полковнике Матове, что тому Матову представлялось невыгодным и даже опасным. А поскольку сам Матов вряд ли станет устранять смершевца, то непременно должен организовать каких-то людей для этого дела, может, даже из их же штурмового батальона, то есть из бывших офицеров, и что диверсанты не зря пытались уйти на ту сторону фронта через дивизию Матова, рассчитывая на поддержку, и прочая, и прочая. В итоге же получилось, будто Олесич при самой смерти Кривоносова только присутствовал, а организовали ее совсем другие люди во главе с майором Голиком, за которым и стоял полковник Матов. А может, и кто повыше. Что Олесич и должен был подтвердить. И он подтвердил. При этом хорошо понимая, что это игра и что если он откажется в эту игру играть, хуже будет только ему самому.
Так ведь у Олесича и в мыслях не было – отказываться.
Тем более что копали под начальство, а начальство – всякое начальство – Олесич не то чтобы ненавидел лютой ненавистью, но считал чужим и враждебным – и для себя, и для всего трудового народа. Потому что все напасти, которые он претерпел в своей жизни чуть ли не с самого рождения, шли от начальства. В свое время Сталин это самое начальство не жалел, изводил под корень, теперь, видать, наступило время опять шерстить это сучье племя, как в тридцать седьмом-восьмом годах. Так что чем больше начальства перебьют и пересажают, тем лучше будет для всех.
Себя Олесич начальством не считал: сменный мастер и вообще всякий мастер на производстве – это даже хуже чем рабочий: с одной стороны, тебя ненавидят рабочие, поскольку ты им и зарплату начисляешь как бог на душу положит, и работать заставляешь сверх всяких норм, и на займы подписываться, и нормы режешь, и все такое-прочее, хотя делаешь все это ты не по своей воле; а с другой стороны – тебя, мастера, клюет и презирает начальство, может, как раз за то, что когда-то само тянуло лямку мастера. Собачья, вообще говоря, должность, и если бы Олесич знал, что она такая, пошел бы лучше рабочим. Но в отделе кадров сказали, что нужны мастера, а поскольку человек он грамотный и с командирским опытом, то это как раз то, что надо.
Олесич большой завод, не считая развалин, видел впервые в жизни – чтоб вот так, изнутри, и чтобы работал, – поэтому ему было без разницы, кем на этом заводе вкалывать. А мастер, как ему казалось, это что-то вроде взводного или даже ротного: знай себе командуй. Сходство, действительно, было…
Последний раз Олесича вызвали в военкомат неделю назад.
Все в той же маленькой комнатенке с зарешеченными окнами за столом сидел молодой русоволосый парень с широкими плечами, мощными руками, распирающими рукава не слишком свежей рубашки, с загорелым до черноты круглым лицом. Парень сказал, что зовут его Виленом и что отныне Олесич будет работать с ним. Федор Аверьянович понимающе кивнул головой, догадываясь, что прошлые его заслуги перед органами вернули его на прежнюю дорогу, что от этого уже не избавишься, что это на всю жизнь.
А Вилен между тем намекнул, что им известно, откуда Олесич и прочие брали лесоматериалы на строительство и чем Олесич откармливает своего кабанчика, в то время как в загородном подсобном свиноводческом хозяйстве катастрофически не хватает кормов. Намекнув, Владлен долго молчал, давая Олесичу осмыслить свое положение. Что ж, положение завидным не назовешь: никаких документов на покупку стройматериалов у Олесича не было, помои брать в столовой не разрешалось, и попадись Верка с ними хотя бы раз, загремела бы лет на пять, как миленькая.
Осмыслив свое положение, Олесич вытер платком обильный пот с крапленого немецким порохом лица, весьма упитанного супротив прошлогоднего, и посмотрел на Владлена с готовностью выполнить любое его приказание. Написано было на этом лице и нескрываемое недоумение: а знает ли этот молокосос о прошлых заслугах Олесича перед органами, или начальство не поставило его в известность, что он решил Олесича попугать? И сделал вывод, что или не знает, или старое уже не в счет.
– Расскажите-ка мне поподробнее о вашем немце, – предложил Владлен, оценив Олесичеву готовность и не придав никакого значения его недоумению. И пояснил: – С кем якшается, о чем разговаривает с рабочими, помогает производству или, наоборот, каким-то незаметным способом вредит? – Еще помолчал и добавил веско: – Учтите, у нас есть основания для подозрения, что Дитерикс остался у нас неспроста.
Олесич наморщил лоб, но вспомнить ничего такого, что могло бы заинтересовать товарища Вилена… («Просто Вилен», – поправил его Вилен), ничего такого вспомнить не смог. Конечно, если сильно поднатужиться, то кое-что наскрести можно, но Олесич уже знал, что спешить с этим делом никак нельзя, что выкладывать все, что знаешь, опасно, потому что особисты могут твои же слова повернуть против тебя самого. Наконец, они заботятся о какой-то своей, не всегда понятной для Олесича, выгоде, им ничего не стоит подставить человека, который им служит верой и правдой, именно тем людям, за которыми сами же и заставляют следить. Так что, хотя Олесич ничего предосудительного о немце сказать не мог, – уже хотя бы потому, что ничего такого не знал: не до немца, своим голова забита под завязку, – но и то, что видел и слышал, попридержал, следователю не выложил как последний дурак, однако сумел заинтересовать, потому что понимал: во-первых, не отвяжутся, а во-вторых, быть своим человеком в этой конторе имеет свои преимущества, то есть это такая крыша, которая может прикрыть его от многих случайностей: те же помои, доски-бревна или еще что. В ином разе можно даже утверждать, что пошел на преступление исключительно в целях разоблачения.
Все это Олесич провернул в своем искушенном мозгу, пока Вилен объяснял ему, как лучше сблизиться с немцем, войти к нему в доверие и всё такое прочее.
– Можете, Федор Аверьянович, рассказать фрицу пару антисоветских анекдотов. Но не сразу, разумеется, а сперва про то, как муж приехал из командировки… Ну, да вы знаете.
– Про командировку знаю, а антисоветские – нет, – сделал Олесич невинные глаза.
Вилен понимающе усмехнулся и тут же выдал с десяток анекдотов, и среди них такие, которых Олесич действительно никогда не слыхивал, и за каждый из которых могут упечь лет на десять.
Про американскую помощь, которую посоветовал Рузвельту и Черчиллю русский эмигрант, – это как раз и был один из тех анекдотов. И не самый-самый, между прочим.