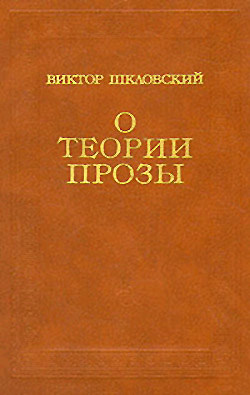Читать книгу О теории прозы - Виктор Шкловский - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
О теории прозы 1982 г.
1. Слова освобождают душу от тесноты
Рассказ об ОПОЯЗе
I
ОглавлениеВ революцию встречались мы на улицах с полками.
Мой товарищ Якубинский, потом профессор, читал морякам Балтийского флота историю и теорию языка.
Мой первый друг, ученик Павлова, доктор Кульбин, когда я к нему пришел, сказал: «Каждый человек может ходить по проволоке, благодаря устройству ушных лабиринтов, но он об этом не знает».
Кульбин помогал мне, давал деньги, кормил. Говорил: не питайся по столовым, ешь лук, пятьдесят копеек в день тебе хватит.
Революция – это эпоха, когда все умеют ходить по проволоке. Когда мы забываем о невозможности.
Наша школа возникла до революции, но гроза уже чувствовалась.
Большой, беловолосый, сутулый, тихо говорящий человек, Велимир Хлебников, по образованию специалист по птицам, орнитолог, называл себя тогда «Председателем Земного Шара». За это он ничего не требовал.
Другой знаменитый человек, мой знакомый, Циолковский, говорил, что в будущее время будет только два правительства: мужское и женское. Гении же должны жить самостоятельно, ничего не спрашивая от правительства, по-видимому ни от того, ни от другого.
Циолковского не то что не знали, его знали и презирали. Не замечали и замалчивали. Смеялись.
Циолковский жил капустным полем, которое он сам обрабатывал. Во всей тихой Калуге у него был один друг, товарищ – это был аптекарь. Тоже тихий человек.
Мне сказали, что я должен ехать к Циолковскому.
Но я не хотел ехать без денег.
Ему должны были деньги по какому-то договору.
Шел, кажется, двадцать восьмой год. Я твердо ответил, что без денег не поеду.
После долгих переговоров мне вручили какие-то документы, договора и пять тысяч рублей. По тем временам для Циолковского это были фантастические деньги.
Приехал.
Обои, дешевенькие, одноцветные, голубенькие обои были наклеены прямо по бревнам избы-дома.
В доме и во всей Калуге рубили капусту.
Грядки для капусты были сделаны так тесно, чтобы только пройти.
Циолковский сказал тихим голосом:
– У Вас большой лоб. Вы должны разговаривать с ангелами.
– Нет, – сказал я.
Циолковский ответил:
– А я каждый день.
Может быть, я ему показался ангелом-спасителем. Сын его застрелился от голода.
Хлебников никогда, по-моему, не имел своей комнаты.
Хлебников в 1912 году написан маленькую страничку, которая называлась «Разговор учителя с учеником». Там были написаны с одной стороны названия стран – Ассировавилония, Парфия, Рим, Афины, Франция, и кончалось это так: «некто 1917 год». Я сказал ему: «Ты думаешь, наша империя разрушится в 1917 году?» – «Пока получается так», – ответил он.
Хлебников мечтал об ограничении прав собственности.
Он старался определить взмахи времени. Время то нарастает, образуя валы, то делает их низкими.
Издан Хлебников с предисловием Тынянова Издательством писателей в Ленинграде.
Первое издание Хлебникова. Больше подобных изданий не было.
Высокий, немного плоскогрудый Владимир Маяковский писал:
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто...
В терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
В знаменитой картине Александра Иванова «Явление Христа народу» на первом плане люди, Иоанн Креститель, а поверх горы идет человек без сияния – будущий пророк и учитель людей Христос.
Перед землетрясениями, в их предчувствии, птицы, коровы, лошади и кошки спасают своих детей и хотят уйти на волю.
Кошка в Ташкенте. Стремясь спасти своего котенка – она выносила из дома свою единственную драгоценность.
А люди не понимали, сердились и несли котенка обратно. Кошка снова выносила котенка на улицу.
Потом дом рухнул.
Вот и в то время колебаний устойчивых поверхностей несколько молодых людей, ученые, будущих профессоров, я, малоученый человек, – мы предчувствовали новый перелом земной коры.
Был я потом солдатом, воевал в дивизионе, смотрел, как мы проигрываем войну немцам, и одновременно писал книги.
Нужно рассказать о небольшом литературном обществе, которое в 1914 году издавало маленькие книжки в крохотной типографии Соколинского на Надеждинской улице, 33.
Наверно, это было начало ОПОЯЗа.
В этот дом часто заходил Маяковский – высокий человек, который летом ходил в черной сатиновой рубашке. Такую неподпоясанную рубашку носили наборщики, потому что им важно, чтобы одежда не задерживала руку.
Маяковский в упомянутой типографии не был издан, но я видел людей, похожих на него. Это были наборщики, переходящие из одной типографии в другую, неблагонадежные люди.
В типографии шрифта было мало. Набирали один-два листа, потом рассыпали набор и опять могли набирать.
Вот в этой маленькой типографии и в другой типографии, на Лештуковом переулке, 13, мы и работали. Она для нас – я говорю для «нас» – от «нас» остался только один человек, – эта типография печатала издания ОПОЯЗа. Это были сборники по теории поэтического языка.
ОПОЯЗ, который издавал свои книги, весь состоял человек из двенадцати, но там был Евгений Дмитриевич Поливанов, который знал неисчислимое количество языков и говорил, что все трудности освоения языков определены тем, что языки не организованы.
Языки не приведены в тот порядок, в который профессор Менделеев привел элементы мира, во всяком случае нашей планеты.
По этой схеме можно было понять место построения не только найденных элементов, но и тех, которые существуют как бы неположенными, неописанными, но будут открыты, ибо они должны существовать.
Был среди нас Лев Петрович Якубинский, специалист по албанскому языку, Виктор Максимович Жирмунский, германист, был Эйхенбаум Борис Михайлович и немного других людей, которые еще не были напечатаны и поэтому как бы не существовали, но должны были существовать и оказались на месте.
ОПОЯЗ собирался в доме на Надеждинской, 33.
Про меня говорил Чуковский: «Все повторяется. И вас назовут недоучившимся студентом».
Это правда, только я чуть позже был профессором при Институте истории искусств на Исаакиевской площади, что напротив знаменитого собора. Дом когда-то принадлежал графу Зубову.
Зубов потом, когда Юденич подошел к Петербургу, подал заявление в партию большевиков. Он хотел воевать с Юденичем и говорил, что он себя ощущает в новой системе, а не в системе графов.
Мы, люди того времени, может быть и вы, мы были более изумительны, чем счастливы.
Евгений Дмитриевич Поливанов в молодости, прочитав «Братьев Карамазовых»; держал пари с гимназическими товарищами, что он положит руку под проходящий поезд и не отдернет ее. И паровоз отрезал ему левую руку.
Это его образумило, он стал заниматься. Сперва он учил корейский язык, потом китайский язык, потом знал филиппинские языки, знал все тюркские языки и писал оставшейся рукой в анкетах, что «совершенно неграмотен по-бутукудски». А бутукуды – это народ в Южной Америке, который палочкой пробивает себе нижнюю губу. «Если бутукудский язык понадобится, прошу предупредить меня за три месяца», – писал он дальше в анкете. Еще и сегодня студенты употребляют эту его формулу, варьируя название языка.
И этот человек, у которого была потом очень сложная биография, и другой мой друг, ученик профессора Бодуэна де Куртенэ, Лев Петрович Якубинский, ученый-лингвист, вот этот человек и Поливанов – они оба заметили одну и ту же вещь.
Они заметили, что в прозаической речи существует явление расподобления, то есть если происходит стечение, соединение одинаковых согласных, то некоторые из них изменяются, чтобы было легче говорить.
Поэтический язык, наоборот, сгущает звуки, как в скороговорке: «ехал грека через реку... сунул грека руку в реку... схватил рак руку грека... говорит раку грек...» и т.д.
То есть поэтическая речь затруднена.
Одновременно Поливанов заметил, что в японском поэтическом языке сохранились те звуки, которых уже в разговорном языке нет.
Но ведь все знают, как устроена урановая бомба. Есть количество урана, которое может оставаться неизменным, но если два количества соединить, то происходит взрыв.
Я в то время писал о заумном языке, о языке религиозных сектантов, был другом Хлебникова, Маяковского, Крученых, Малевича, Татлина, прочих людей. Их уже нет.
И тогда нам пришла мысль, что вообще поэтический язык отличается от прозаического, что это особая сфера, в которой важны даже движения губ: что есть мир танца: когда мышечные движения дают наслаждения; что есть живопись: когда зрение дает наслаждение, – и что искусство есть задержанное наслаждение, или, как говорил Овидий Назон в «Искусстве любви», любя, не торопись в наслаждении.
Время было очень голодным, время революции. Мы топили книгами печки, сидели перед «буржуйками», железными печками. Читали книги как бы в последний раз, отрывая страницы. Оторванными страницами топили печь.
И писали книги. Свои.
Когда говорят про людей моего поколения, людей часто несчастливых, что мы жертвы революции, это неправда.
Мы делатели революции, дети революции.
И Хлебников, и Маяковский, и Татлин, и Малевич.
Малевич был старый большевик с самых первых годов революции, участник Московского восстания, а среди ОПОЯЗа, кажется, только трое были не большевики.
Какие мы делали ошибки? Оставим других.
Я говорил, что искусство внеэмоционально, что там нет любви, что это чистая форма. Это было неправдой. Есть такая фраза, не помню чья: «Отрицание – это дело революционера, отречение – это дело христианина».
Не надо отрекаться от прошлого, его надо отрицать и превращать.
И вот мы, особенно я, заметили, что те явления, которые происходят в языке, вот это затруднение языка, вот эти звукописи, сгущения, рифмовка, которая повторяет не только звуки предыдущего стиха, но заставляет заново вспоминать прошлую мысль, вот этот сдвиг в искусстве – явление не только звуков поэтического языка, это сущность поэзии и сущность искусства.
И я тогда создал термин «остранение»; и так как уже могу сегодня признаваться в том, что делал грамматические ошибки, то я написал одно «н». Надо «странный» было написать.
Так оно и пошло с одним «н» и, как собака с отрезанным ухом, бегает по миру.
Толстой не верил в разум, то есть в жизнь, которая вокруг него была, и он описывал жизнь не такой, какая она есть, а такой, какая она должна быть.
Как Островский говорил, что стихи надо писать не только тем языком, которым народ говорит, но и тем языком, которым народ мечтает.
Об этом сдвиге говорил Чехов, никак не могу вспомнить где, хотя выписка сохранилась.
Чехов говорил: Я устал, я много написал, и я уже забываю переворачивать свои рассказы вверх ногами, как Левитан переворачивает свои рисунки для того, чтобы снять с них смысл и увидеть только отношение цветовых пятен[77].
Почти всю жизнь я занимаюсь Толстым, и Толстой у меня изменяется, как будто молодеет. Он для меня все время впереди.
Толстой был всегда настолько молод, что завидовал Чехову, считая, что Чехов предвосхитил новый реализм. И говорил, что когда Чехов умер, то он увидел его во сне, и Чехов сказал: твоя деятельность – он говорил про проповедь – это деятельность мухи. И я проснулся, чтобы возражать ему, сказал Толстой.
Надо сомневаться в себе до последнего момента, и надо быть вдохновенным.
Маяковский говорил: «Если ты испытаешь вдохновение и в этот момент попадешь под трамвай, то считай, что ты выиграл».
Надо стараться превосходить самого себя и перешагивать через свой вчерашний день.
Толстой описывает Бородино не с точки зрения военно-командующего, а с точки зрения Пьера Безухова, который как будто ничего не понимает в военном деле; военный совет Толстой описывает глазом девчонки, которая смотрит на этих генералов, сверху, с печки, – как на спорящих мужиков, и она сочувствует Кутузову.
Толстой как бы не доверяет специалистам.
Не так давно на реке Черный Дрим слушал я какую-то румынскую поэтессу, которая читала или почти танцевала заунывные стихи, вставляя слова «аллилуйя».
Я думал, делали ли это уже пятьдесят лет назад? Не в том дело, что это не надо делать. Это мало – делать так.
Невключение смысла в искусство – это трусость.
Так что цветовые пятна должны сначала разлагаться и потом складываться – не зеркально.
Когда-то я писал, что искусство внежалостно.
Это было горячо, но неверно.
Искусство – глашатай жалости и жестокости, судья, пересматривающий законы, по которым живет человечество.
Я ограничивал сферу применения искусства и повторял ошибку старых эстетиков.
Они думали; что рифмы, размеры и некоторые стилистические приемы – это дело искусства, а ропот Иова и влюбленность женщины и мужчины в «Песни песней», скитания Чайльд Гарольда, и ревность Пушкина, и споры Достоевского – все это только мантия искусства.
Это неверно.
Искусство обновляет религии, проверяя чувства на своих как бы судоговорениях, искусство выносит приговоры.
Мы работали со страшной быстротой, со страшной легкостью, и у нас был уговор, что все то, что говорится и компании, не имеет подписи – дело общее. Как говорил Маяковский, сложим все лавровые листки своих венков в общий суп.
Так потихоньку создалась теория прозы, поспешная, но мы заметили торможение, мы заметили условность времени, что время литературного произведения, время драматургии – иное время, чем то, которое на улице, на городских часах.
Мы заметили смысл завязок, развязок, и в 1916 году мы начали издавать книгу «Поэтика».
Одна статья моя, которая тогда была написана, – «Искусство как прием» – перепечатывается без изменения до сих пор.
Не потому, что она безгрешная и правильная, а потому, что как мы пишем карандашом, так время нами пишет.
Многое из того, что мы говорили, стало сегодня общеизвестным.
Часто, когда человек говорит что-то новое, сперва говорят ему, что он врет, а потом говорят, что мы это всегда знали. И то, что ты говоришь нам, сами знаем лучше тебя.
Количество статей, которые я написал, может сравниться только с количеством статей, в которых меня ругали.
Я и Роман Якобсон были влюблены в одну женщину, но судьба такая, что книгу о женщине написал я.
В этой книге рассказано, как женщина не слышит меня, но я вокруг ее имени как прибой, как невянущий венок.
Чтобы хоть как-то представить, что это было за время, расскажу, как мы печатали «Поэтику» и «Мистерию-буфф» Маяковского.
Был 1919 год. Юг России был захвачен белогвардейцами. У Петербурга не было окрестностей.
Когда мы издавали газету, у нас не было муки, чтобы заварить клейстер, и мы газету примораживали водой к стенке. Такое годится только для зимы. Летом ищите другой способ.
В это трудное время прихожу в маленькую типографию на Лештуков переулок, 19, там сидит директор, один, в пальто. У него замерзли машины, и валы, которые накатывают краску, прыгают по набору. Они не могут работать.
Только одна комната отапливается. Маяковский дает наборщику, старику, книгу. Тот перелистывает и говорит: «Немного написал».
Маяковский спрашивает: «Когда наберешь?»
Рабочий отвечает: «Я старый наборщик, работаю быстрее твоей машинистки, к утру наберу».
Утром пришли – оттиск. Но у Маяковского были такие ступенечки, а наборщик каждую ступеньку начал с большой буквы.
Маяковский говорит: «Это не так».
Тогда рабочий говорит: «Если ты такой умный, то пиши об этом на обложке, то есть на полях, и обведи красным. Я сделаю так, как ты хочешь».
«Что же делать?» – сказал поэт.
Наборщик ответил: «Я переберу, но так как ты виноват – пол-литра».
К утру мы пришли – все перебрано, и наборщик говорит: «У нас бумага с одной стороны гладкая, а с другой – шероховатая. Если я дам мальчику, он все испортит и книга будет пестрая, но я сам все сделаю».
«Ну сколько ты за это возьмешь?» – спрашивает Маяковский.
А тот отвечает: «Ничего не возьму, я просто показываю, как надо работать».
«А когда все будет готово?» – «А ты шитье американское принимаешь?» – «Принимаю». – «Ну, тогда дней через десять пятьдесят тысяч экземпляров в пачках».
Говорю об этом, понимая, что, возможно, кое-что не имеет отношения к теории искусства, но имеет отношение и теории времени.
Это время, когда люди ходят по проволоке, когда надо, и перейдут, и не упадут, и гордятся работой, гордятся умением.
В журнале «ЛЕФ», журнал толстый, был один рабочий, один журналист, а редактором был Маяковский. И хватало.
Напутали мы достаточно. Но сделали мы больше, чем напутали.
Теперь, что я напутал. Прежде всего напутал в том, что написал «Zoo».
Надо рассказать, как пишутся книги.
Мне нужны были деньги.
Когда-то мне говорил Горький, что главное в литературе не напрягаться и не стараться. Не стараться сразу стать героем. Что же надо делать? «А ты возьми аванс и растрать его, а потом сядь и скажи: у нас денег нет, но вот я сяду и буду работать по часам – четыре часа в день».
Потом на ухо говорит: «И непременно выйдет. Надо растормозить себя и поставить себя в такое положение, что нельзя не окончить. Можно писать заново, а вычеркивать не надо. Лучше написать три романа и два выбросить, но надо работу доканчивать, потому что рукопись вас умнее. Когда начинаете писать, вы присоединяетесь к общечеловеческому труду, вы умнеете...».
Надо не позволять себе неудачи. Надо додумывать, потому что в этой неудаче может быть неиспользованная возможность человечества. Не надо пугаться трудностей.
Возвращаюсь к «Zoo». У меня не было денег, я решил написать книгу о людях, которые ходили по эмигрантскому Берлину. Там был Андрей Белый, Пастернак, Шагал. Много людей было. Маяковский приехал на время.
Я в это время был влюблен. Влюблен так, что разогнал от женщины, в которую был влюблен, на километр всех людей, которым она нравилась.
И тогда, будем хвастаться, я взял одного англичанина, который мне не поправился, он слишком пристально смотрел на женщину, взял и бросил на рояль в ресторане.
За рояль, конечно, заплатил он, а не я, так как денег у меня не было.
Откуда у меня взяться деньгам?
Англичанин не стал со мной объясняться.
А одной женщине сказал, что, когда он был в Сербии, там парни были похожие на меня, ходят с ножами, могут зарезать.
И он подумал: а вдруг у меня нож? Потому-то он и решил заплатить.
Вот в каком я был состоянии, перед тем как сесть писать. Начал, а потом приходит... глупая вещь, которая называется вдохновением.
Писал – не писал, а диктовал в очень холодной комнате, засунув ноги в корзину, закутавшись. Книгу надиктовал за неделю.
Про вдохновение Гоголь многое говорил, но я не могу найти, где он это сказал: «Вернись ко мне, вернись хоть на мгновенье. Хотя бы для того, чтоб я увидел сам себя. Вернись ко мне грозою, вьюга-вдохновенье»[78].
Написал книгу, в которой были все метафоры любви.
Что получилось? Женщина ушла, книга осталась.
Прошло много лет, и эта книга нравится сейчас больше, чем тогда, когда была написана. Она и мне нравится больше, чем то, что, например, сейчас пишу. Потому что жизнь, голос крови меняют мир.
Маяковский сказал мне: говори самые жестокие вещи, но не говори, что моя последняя книга хуже предпоследней.
Противоречия жизни превращаются в факты продвижения человечества. Книги, конечно, все трудные, и все книги нужные, если они трудные.
Как-то Толстой, молодой Толстой, шел с мальчиками по лесу. Лес был зимний, а перед этим только что повар зарезал тетку Толстого. Она жила не в этом доме.
Было страшно. И дети игрались со страхом. И вот идут дети с Толстым, тропинка узкая. Они попадают на снег и держатся за его полу, и его любимый ученик – Морозов – говорит ему: «Лев Николаевич, для чего люди поют?»
Тогда Лев Николаевич в первый раз рассказал им историю Хаджи-Мурата, который перешел к русским и потом хотел вернуться к своей семье, сражался, его нукеры точили сабли, пели птицы и пели его сабли. Потом он сражался. Его окружили, и когда Хаджи-Мурат остался один, то он запел песню о птицах, которые должны сообщить о том, как он умер, сражаясь. И он стал такой страшный, что от него все отступились. Потом его люди упали, а Хаджи-Мурат пел песню и шел вперед. Потом Хаджи-Мурат упал. Потом опять запели соловьи.
Толстой записал в дневнике: «Так и надо, так и надо».
Писал он эту вещь сорок лет. И не дописал. Но говорил, что если б он умел писать тогда, когда писал «Войну и мир», то написал бы небольшую книжку. Такую, как «Хаджи-Мурат», сгущенную книгу.
Подведем итоги. Помню у Ленина такое место: остроумие и ум. Остроумие обостряет различия уже не различаемого, делает как бы щит, обновляет, а мыслящий разум в этом раскрытии видит пульсацию действительности[79].
Вот так писал Гоголь, Свифт. Так писали великие люди, так пишет стихия.
Гераклит говорил, что для того, чтобы получить гармонии, надо сперва иметь дисгармонии.
В чем я виноват? Я прежде всего довольно много знаю, но одновременно мало знаю. Не знал философию. Поэтому думал, что все открываю заново.
Меня били за это страшно, потому что те, которые меня били, и этого не знали.
Но у них была отрицательная интуиция. Подарили мне такое выражение.
У них был нюх. А тот, кто живет не по правде, в нее и кидает камнями.
Булыжники были увесистые.
Шли мы сквозь свист и хохот.
Обычно говорят: «сдал сопротивление материалов», говорят тем же тоном, как и слова «сдал пальто на хранение».
Мой совет: не сдавайте то, что узнали.
Когда будете защищать свои работы, не защищайтесь, а нападайте. Иначе вы проиграете смысл.
Потому что мы сильнее, потому что человек, освобожденный от боязни, увидавший самого себя, человек, который чувствует себя, что он должен быть понятым, он всесилен.
Страшно плакал, когда описывал последние страницы толстовского бегства, потому что он был такой знаменитый, что ему некуда было бежать.
Он не мог переделать мир и не мог найти в этом мире спокойного места для того, чтобы быть хорошим, одному хорошим.
Я написал книгу об Эйзенштейне Сергее Михайловиче, авторе «Броненосца «Потемкин», философе, который написал статью «В защиту бедняка Сальери».
Эйзенштейн был ученейший человек. Очень несчастливый человек, видящий далеко.
Смотрел недавно последние картины Феллини, и мне страшно было не только потому, как безнадежен он, но как он видит свою безнадежность.
Расскажу один эпизод.
В одном месте дан показ дамских мод. Потом идет показ моделей для духовных лиц: сперва идут ксендзы, хорошо одетые, потом идут, вернее влетают, в малиновых одеждах ксендзы на роликовых коньках и показывают фигурное катание, потом идет благословляющая рука Господа без ног, потом идет нарядный скелет, потом скелеты держатся друг за друга, и они покрыты роскошными одеяниями.
И в конце артистка, которая проходит, точнее сопровождает все эти вещи, открывает дверь и спрашивает на римском диалекте: «А вы что об этом думаете?» – и закрывает дверь.
Какое красивое отчаяние.
Папа сидит, на нем малиновая риза, а в руках у него зеленый бокал, а в зеленом бокале – вино, висит золото, а перед ним проходит вот этот мертвый мир.
На чем кончается книга об Эйзенштейне?
Книга кончается рассказом Толстого.
Толстой в «Книге для чтения» написал два рассказа: один назывался «Черемуха», а другой назывался «Как деревья ходят».
Рассказывается так: понадобилось Льву Николаевичу расчистить сад, и увидел он, что на дорожке растет черемуха, и велел он ее срубить. Начал рубить рабочий, подошел сам Толстой и говорит: «Всякую работу надо делать весело» – и начал рубить. А дерево хлюпало, и вдруг оно внутри закричало и упало и лежало, полное цветов и пчел. «Жалко», – сказал рабочий. «И мне было жалко», – говорит Толстой. Через несколько лет Толстой увидал опять, как цветет на другой дорожке черемуха. Посмотрел, а это побег той черемухи, которую он рубил с рабочим. Рассказ он назвал «Как деревья ходят».
Не бойтесь неудач.
Всегда признание приходит поздно, но писание до признания – наслаждение.