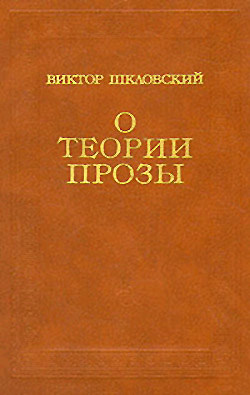Читать книгу О теории прозы - Виктор Шкловский - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
О теории прозы. 1929 г.
Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля
О мотивах
ОглавлениеМногое можно возразить против этнографической теории и по вопросу о происхождении мотивов. Представители этого учения объясняли сходство повествовательных мотивов тождеством бытовых форм и религиозных представлений. Это учение обращало на мотивы свое исключительное внимание, только вскользь подымая вопрос о значении влияния друг на друга сказочных схем и совершенно не интересуясь законами сюжетосложения. Но и помимо этого этнографическая теория не точна в самом своем основании. По ней сказочные мотивы-положения являются воспоминаниями о действительно существовавших отношениях. Так, например, кровосмешение в сказках свидетельствует о первобытном гетеризме, помощные звери – следы тотемизма, похищение невест в сказках – воспоминание о браке посредством увоза. Подобными объяснениями положительно завалены все работы, в частности – труды А.Н. Веселовского.
Для того чтобы показать, куда приводит это объяснение происхождения мотивов, я разберу одно классическое исследование происхождения сказки. Привожу его. Дело идет о Дидоне, овладевшей землей при помощи хитрости. Разбор принадлежит В.Ф. Миллеру[36]. Сюжет об овладении землей при помощи коровьей шкуры, разрезанной на ремни для того, чтобы охватить ею возможно больший участок, В.Ф. Миллер находит в классическом греческом предании о Дидоне, использованном Вергилием, в трех местных индийских преданиях, в одном индокитайском предании, в византийском XV века и турецком, приуроченных к постройке крепости на берегу Босфора, в сербском предании, в исландской саге о сыне Рагнара Лодброка Иваре, в датской истории Саксона – грамматика XII века, в хронике Готфрида в XII жe веке, в одной шведской хронике, в предании об основании Риги, записанном Дионисием Фабрицием, в предании об основании Кирилло-Белозерского монастыря (трагическая развязка), в псковском народном сказании о постройке стен Печерского монастыря при Иване Грозном, в черниговской малорусской сказке о Петре Великом, в зырянском сказании об основании Москвы, в кабардинском предании об основании Куденетова аула (герой – еврей) и, наконец, в рассказах североамериканских племен об обманном захвате земли европейскими колонистами.
Проследив, таким образом, с исчерпывающей полнотой за всеми обработками этого сюжета, В.Ф. Миллер обращает внимание на ту особенность, что обманутая сторона не протестует против насильственного захвата земли другой стороной, что вызвано, конечно, условностью, лежащей в основе всякого произведения, состоящей в том, что положения освобождаются от их реального взаимоотношения и влияют друг на друга по законам данного художественного сплетения. «В рассказе, – утверждает В.Ф. Миллер, – чувствуется убеждение, что путем обведения участка земли ремнем совершился юридический акт, имеющий законную силу» (с. 227).
О смысле этого акта дает представление ведийская легенда, занесенная в древнейшее индийское религиозное сочинение «Catapatha Brahmana». По этой легенде: враждебные богам духи Асуры вымеряют землю кожей быка и делят ее между собой. В соответствии с этой легендой, в древнеиндийском языке слово «до» имело значение «земля», «корова»; слово «gocarman» («коровья кожа») обозначало определенное пространство земли. «В параллель с древнеиндийским названием меры земли («gocarman») можно поставить, – говорит В.Ф. Миллер, – англосаксонское «hyd», английское «hide», обозначающее первоначально кожу (немецкое «Haut»), а затем известный участок земли, – равняющийся 46 моргенам. Отсюда становится весьма вероятным, что индийское «gocarman» обозначало первоначально такой участок земли, который можно охватить разрезанной на ремни коровьей шкурой. И только впоследствии, когда древнее значение было забыто, это слово стало обозначать такое пространство, на котором могут вплотную поместиться сто коров с их телятами и бык» (с. 229).
Как видим, в цитированном труде работа по выяснению «бытовой основы» доведена не только до конца, но и до абсурда. Оказывается, что обманутая сторона – а во всех вариантах сказки дело идет об обмане – потому не протестовала против захвата земли, что земля вообще мерилась этим способом. Получается нелепость. Если в момент предполагаемого совершения действия сказки обычай мерить землю «сколько можно обвести ремнем» существовал и был известен и продавцам и покупателям, то нет не только никакого обмана, но и сюжета, потому что продавец сам знал, на что шел.
Похищение невест в сказках, в котором привыкли видеть изображение действительно существовавшего обычая, также едва ли может считаться воспроизведением бытового явления. Есть полное основание думать, что те свадебные обряды, в которых видят пережиток этого обычая, являются чарами, направленными против злого духа, который может повредить новобрачной. «...В этом мы можем убедиться отчасти и путем аналогии с другими частностями свадебного ритуала, хотя бы, напр., со свадебным петухом, который служит обыкновенно предметом свадебных забав и играет большую роль в малорусской и болгарской свадьбе... Итак, мы не ошибемся, если, резюмируя свое заключение, скажем, что у тех из современных народностей, у которых практикуется х и щ н и ч е с к о е п о х и щ е н и е ж е н щ и н, э т о п о с л е д н е е в о з н и к л о и з п е р в о н а ч а л ь н о г о р и т у а л ь н о г о п о х и щ е н и я, к а к е г о в ы р о ж д е н и е. Что же касается свадебных обрядов, на которые принято смотреть как на обряды, симулирующие похищение, то, будучи тесно связаны, так же как и обычай ритуального похищения, с первобытными религиозными представлениями народа, обряды эти вместе с тем должны быть рассматриваемы только как мероприятия, ограждающие свадебный поезд от действий на него злых духов»[37].
Так же обстоит дело с сюжетом «муж на свадьбе жены». Крук, а вместе с ним и Веселовский объясняют его возникновение обычаем левирата, то есть признанием за родственниками мужа прав на его жену[38]. Если это объяснение верно, то непонятна ярость Одиссея, который, очевидно, не знает об этом обычае.
Не отрицая возможности возникновения мотивов на бытовой основе, я отмечаю, что для создания таких мотивов обыкновенно пользуются коллизией обычаев – противоречием их: воспоминание о несуществующем больше обычае может быть использовано для построения конфликта.
Так, у Мопассана целый ряд рассказов («Старик» и многие другие) основан на изображении простого, не патетического отношения к смерти, существующего у французского крестьянина. Казалось бы, что основой построения рассказа является простое изображение быта. На самом же деле весь рассказ рассчитан на читателя другой среды, с другим отношением к смерти. Такой же характер носит и рассказ «Возвращение»: муж возвращается после кораблекрушения; жена его замужем за другим: два мужа мирно пьют вино; кабатчик тоже не удивлен. Рассказ этот рассчитан на читателя, знакомого и с сюжетом «муж на свадьбе жены» и имеющего менее простое отношение к вещам. Таким образом, здесь сказывается тот же закон, который делает обычай основой создания мотива тогда, когда обычай этот уже не обычен.
Как общее правило, прибавляю: произведение искусства воспринимается на фоне и путем ассоциирования с другими произведениями искусства. Форма произведения искусства определяется отношением к другим, до него существовавшим, формам. Материал художественного произведения непременно педалирован, то есть выделен, «выголошен». Не пародия только, но и всякое произведение искусства создается как параллель и противоположение какому-нибудь образцу. Новая форма является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, уже потерявшую свою художественность.
Сравним: «Я выделяю только одну группу нечувственных форм – самую важную, думается мне: дифференциальные ощущения или ощущения различий. Когда мы испытываем что-нибудь как отклонение от обычного, от нормального, от какого-нибудь действующего канона, в нас рождается эмоциональное впечатление особого качества, которое по типу своему не отличается от эмоциональных элементов чувственных форм, с той только разницей, что его антецедентом является ощущение несходства, то есть нечто, недоступное чувственному восприятию. Это область неисчерпаемого многообразия, потому что дифференциальные впечатления качественно отличаются между собой по их исходному моменту, по их силе и линии расхождений.
Почему лирика чужого народа никогда вполне не раскрывается для нас, даже если мы изучили его язык? Игру созвучий мы слышим, мы воспринимаем рифму за рифмой и чувствуем ритм, мы понимаем смысл слов и усваиваем образы, сравнения и содержание: все чувственные формы, все предметы схватить мы можем. Чего же еще недостает? Дифференциальных впечатлений: малейшие отступления от обычного в выборе выражений, в комбинации слов, в расстановке и изгибах фраз – все это может схватить лишь тот, кто живет в стихии языка, кто, благодаря живому сознанию нормального, непосредственно поражен всяким уклонением от него, подобно чувственному раздражению. Но область нормального в языке простирается еще далее. Всякий язык обладает своей характерной степенью абстрактности и образности; повторяемость известных звуковых сочетаний и некоторые виды сравнений принадлежат к области обычного: всякое отклонение от него в полной силе ощущает лишь тот, кому язык близок, как родной; но зато уж его всякое изменение выражения, образа, словесного сочетания – поражает, точно чувственное впечатление...
При этом открывается возможность двойных и обратных дифференций. Определенная степень отличия от обыкновенного может, в свою очередь, сделаться исходным пунктом и мерою для отклонений, так что здесь всякое в о з в р а щ е н и е к обычному испытывается как отличие...
Эту же мысль высказывает, в сущности, и Ницше в одном афоризме о “хорошей прозе”: только “перед лицом поэзии” можно писать хорошей прозой, она представляет непрерывную, вежливую войну с поэзией, и все ее прелести состоят в том, что она постоянно избегает поэзии и противоречит ей. Если невозможна поэзия, которая не держится на известном расстоянии от обыкновенной прозы, то, в свою очередь, хорошая проза держится на приличной дистанции от поэзии.
Все, что может быть каноном, делается исходным пунктом активных дифференциальных ощущений. В поэзии геометрически застывшая система ритма: слова подчиняются ему, но не без некоторых нюансов, не без противоречий, ослабляющих строгость размера; каждое слово хочет удержать свое собственное слоговое ударение и долготу и расширяет отведенное ему пространство в стихе или немного суживает его; так возникают впечатления мелких уклонений от строгой системы. Далее, противоположность смысла и стиха: стих требует подчеркивания некоторых слогов, на которые должно падать главное ударение, а смысл незаметно переносит акцент на другие; затем отграничение каждого стиха от соседних; связь, требуемая смыслом, перескакивает через эти промежутки, не всегда дозволяет делать паузу, которая должна быть в конце стиха, и, может быть, переносит ее в середину следующего стиха. Благодаря ударениям и паузам, необходимым по смыслу, происходит постоянное нарушение основной схемы; эти различия оживляют строение стихов; а схема, помимо своих ритмических формальных впечатлений, исполняет еще функцию – быть масштабом отклонений и вместе с тем основой дифференциальных впечатлений. То же самое в музыке: математическая концепция такта должна ощущаться, как задний фон, для тогo, чтобы на нем мог выделяться живой поток звуков, и это достигается совокупностью тончайших оттенков отличий»[39].