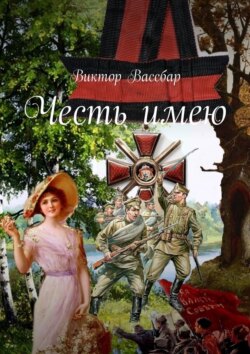Читать книгу Честь имею - Виктор Вассбар - Страница 4
Часть 1. Взорванная любовь
Глава 1. Весна в Омске
ОглавлениеВ 1911 году весна стремительно ворвалась в Западную Сибирь. Резко вступив в свои права, – не дав ушедшей сибирской зиме даже мизерной возможности тряхнуть напоследок снежным подолом, – она скатила со своих молодых плеч холодное наследство старухи зимы – облезлые шапки снега на крышах домов, и, раскрывая почки на деревьях и выплёскивая из них мелкие маслянистые зелёные бусинки, развесила на берёзах золотые серёжки, предвестницы бурного цветения природы. Лишь по оврагам и буеракам, в лощинах и низинах ещё лежал и искрился на солнце снег, но он не приносил каких-либо неудобств весне и сибирякам, «высыпавшим» после долгого зимнего застоя, как разноцветное конфетти на новогоднем празднике, в лёгких нарядных одеждах на улицы городов. Шла вторая половина апреля.
Серые шинели «скатились» с плеч офицеров. Вне караула и исполнения службы они уже не носили пояса поверх сюртука или кителя. Брюки в повседневной носке были навыпуск, а ботинки без шнурков. Жаркая весна одела их в сюртуки и кители из белой материи без кантов, «усадив» на голову фуражку с белым верхом. Даже солдатам было разрешено расстегивать хлястик шинели и носить её внакидку на плечах, как плащ, не одевая в рукава. Единственное, что пока не разрешалось, – ходить без мундира, – в одной гимнастерке.
Жара коснулась не только военных омского гарнизона, но и гражданского населения города. Шубы и шубки, зипуны и малахаи, пальто и чиновничьи шинели окончательно покинули тела омичей.
Гимназисты вышагивали по улицам без светло-серых шинелей офицерского покроя с синими петлицами, окантованными белым кантом, в которых они ходили в холодное время года. Сейчас они щеголяли в светло-серых суконных гимнастерках и такого же цвета брюках, опоясанных черным кожаным поясом с инициалами и номером гимназии на никелированной пряжке. На синих фуражках с белыми кантами серебром сияли кокарды, с номером гимназии на двух скрещивающихся ветках.
Реалисты были одеты так же, только гимнастерки и брюки были темно-серого цвета, фуражки цвета зеленого лука, все канты желтого цвета, а пуговицы, пряжка и кокарды золотистого цвета.
Проще гимназистов и реалистов были одеты учащиеся городских школ. Их одежда была вольной и очень скромной, так как это были дети рабочих, ремесленников и других низкооплачиваемых горожан. От неучащейся молодёжи их отличали лишь суконные фуражки без кантов, но с кокардой на околыше.
По мостовым города, осторожно, как бы впервые ступив на них, шли сутулые чиновники государственной службы. Они, как правило, были одеты в форму, состоящую из сюртука темно-синего цвета с петлицами. На голове обязательно была фуражка с кокардой, лишь учителя казенных учебных заведений позволяли себе некоторую вольность в одежде, носили на улице штатское пальто и шляпу вместо стандартной фуражки.
Вот по улице идёт священнослужитель. Он одет в темно-серую длинную до каблуков рясу. На вид она проста, но если внимательно приглядеться – не без щегольства, плотно облегает спину и талию, с длинными и широченными внизу рукавами. У него на груди большой золоченый крест на массивной цепи, на голове уширяющийся кверху высокий цилиндр без полей, он сиреневого цвета. Прохожие смотрят на священнослужителя и удивляются, задавая себе вопрос: «Зачем попу такие широкие рукава? – И сами, смеясь и тыча пальцем на служителя церкви, отвечают на него. – Чтобы прятать уворованное!».
С рассветом спешат к своим рабочим местам рабочие, лавочники, ремесленники и уличные торговцы. На них темно-синие и черные картузы, редко с лакированным козырьком, суконные черные и темно-синие поддевки, сапоги гармошкой, сатиновые и ситцевые рубахи навыпуск – косоворотки белые, голубые, малиновые и других цветов, иногда в мелкий рисунок. Они все подпоясаны широким кожаным ремнем или шнурками, с кисточками или шариками на концах. На лавочниках поверх рубахи одета суконная жилетка, из-под которой свободно свешиваются полы рубахи. А дворники уже заканчивают свою утреннюю работу.
Вся разношерстная толпа прохожих в будничные дни одета не ярко, скромно. Общий тон одежды тёмный, хотя изредка мелькали белые гимнастерки и кители учащихся, военных и чиновников, да белые блузки женщин.
Ярким пятном на центральных улицах Омска выделяется одежда кормилиц. Их наняли богатые семьи для грудных малышей. В большинстве случаев это дородные молодые женщины, часто красивые, отдавшие своих младенцев в деревне в чужие семьи и поступившие на службу в городе за «неплохие харчи» и заработок, превышавший заработок хорошей прислуги. В богатых семьях было принято одевать кормилиц в русскую национальную одежду – нарядный сарафан, расшитый кокошник с разноцветными сатиновыми лентами сзади, с пышными расшитыми рукавами. Прогуливаясь по улицам и толкая впереди себя коляски с плетеными корзинами, с младенцами внутри, эти женщины украшали окружающую обстановку, вызывая умильные взоры горожан, встречающихся на их пути. Но сегодня праздник – Светлое Христово Воскресение. Сегодня все одеты празднично.
Мужчины – возрастом за тридцать лет и из цивильного сословия облачились в укороченные пиджаки без подкладных плеч с завышенной талией и удлиненными лацканами. Голова каждого из них покрыта мягкой фетровой шляпой, у некоторых без полей, вывернутых из длинного фетрового колпака. Чуток поодаль от них, – на территории, прилегающей к зданию Драматического театра, у здания женской гимназии стоят группы молодых щёголей по пять – шесть человек. Они вьются возле весёлых молоденьких хохотушек, блистают остроумием и джазовыми костюмами – туго застегнутыми пиджаками и брюками-дудочками. В этой молодёжной среде царит лёгкость и свобода мышления. Как часто любят выражаться они: «Свобода от старых предрассудков».
– Гляньте, как старые петухи распушили свои перья, – смеясь, проговорил высокий худощавый студент, показывая пальцем на группу мужчин средних и вышесредних лет, о чём-то тихо беседующих друг с другом и как бы мельком бросающих взгляд на дам, проходящих мимо важной, медленной походкой. И ведь думают, что никто ничего не замечает. Так и несёт от них животной вонью, вот ведь козлы вонючие!
И действительно, это невозможно было скрыть как от шумной весёлой молодёжи, так и от самих дам, бросающих кокетливый взгляд на мужчин, как, впрочем, и от каждого из них.
Отдельно от группы старших ребят стоят в тени берёзы три юные молодицы и тихо беседуют, изредка бросая завистливый взгляд сияющих глаз на весёлых хохотушек, стоящих в группе студентов.
– Интересно, о чём это они там шумно говорят? – проговорила стройная девушка лет пятнадцати.
– Ясно о чём. Балагурят и обсуждают каждого встречного поперечного. Что им ещё делать-то? Павлинами, распушив хвосты, красуются перед своими подружками, – ответила слегка полноватая девушка, гордо вскинув голову с тугой русой косой.
– Ну их! Не смотрите на них, подруженьки. Подумают ещё, что мы завидуем. А по мне так они вовсе и не весёлые, друг перед дружкой рисуются, ломаются, как клоуны, а за душой ни мысли, ни дела нужного, – одна бестолковая болтовня и натянутый смех, – заключила третья девушка и предложила подругам покинуть пёструю площадь.
– А и правда, нечего здесь делать. Стоим, лупим глаза, как дурочки, на всех этих… – кивнув в сторону весёлой молодёжной группы, ответила девушка с русой косой. – Праздник сегодня, – Светлое Христово Воскресение… а мы… пойдёмте отсюда!
В городе беспрерывно звонят в колокола. По существующему обычаю, в светлый праздник каждый может звонить в колокола за известную плату дьячку и, разумеется, народ злоупотребляет предоставленной ему свободой. Звенят, звенят колокола с утра и будут звенеть до вечера. Праздник! Великий праздник Воскресения Христова! Солнечный, не по-весеннему жаркий день, – 10 апреля 1911 год. Мужчины христосуются и с жадностью лобзают всех знакомых, и даже не знакомых, но хорошеньких дам, те, смущаясь, подставляют вспыхивающие румянцем щёки и щёчки, улыбаются и кокетливо поводят глазами на любезные слова, сказываемые им мужчинами.
Сегодня дамы надели красочные цельнокроеные платья с глубокими квадратными, круглыми и v-образными вырезами, смело открывающими истосковавшемуся взгляду мужчин всех возрастов верхние скаты «шёлковых», снежно белых грудей. А прямые, узкие подолы платьев, подчёркивающие тонкие талии дам, вообще сводят их с ума. Собравшись группками на обочине мостовой, выложенной кирпичом-железняком и галькой, мужчины как бы ведут разговор, а по сути, своими жадными глазами срывают с дам их смелые наряды и мысленно впиваются своими воспалившимися губами в алые уста молоденьких дев и в груди «сочных» дам. И этим мысленным лобзаниям не мешали даже громоздкие со страусовыми перьями, с чучелами маленьких птичек, а то и с перьями «эспри» новомодные шляпки, красующиеся на миленьких головках женщин. И всем без исключения мужчинам мнилось одно, – как во время лобзаний их лица ласкают маленькие дамские ручки в длинных кружевных перчатках, но то были лишь мечты. От этих сладостных грёз мужчины возгорались жарким пламенем, горячий пот катил по их щекам, и чтобы как-то скрыть от собеседников свою похоть они жаловались на жару и безветрие. При этом, утирая лицо платком, как бы отводили от собеседников свой взгляд и ещё алчнее впивались глазами в соблазнительные открытые места женских тел.
Весна ликовала. На Чернавинском проспекте непринуждённо стояли и вальяжно передвигались по его мостовой «проснувшиеся» под тёплым весенним солнцем горожане, – нарядные дамы и взрослеющие, но ещё юные девушки, чинные офицеры и не менее степенные чиновники, беззаботные студенты и бойкие школяры, угрюмые мужики и суетливые бабы, – важный и простой люд.
Вот куда-то спешит офицер. Вслед ему с завистью смотрят школяры, – восхищаются его парадным воинским мундиром с эполетами на плечах.
Прогулочным шагом, бросая скучающий взгляд на прохожих, прохаживаются чиновники.
Мило улыбаясь, беседуют две молодые дамы, в руках каждой зонт от солнца. У той, на ком розовое платье с глубоким вырезом, открывающим верхние скаты пышных грудей – розовый зонт, другая дама, чья маленькая, почти девичья грудь с трудом просматривается под тонкой голубой тканью платья, держит в руках ажурный белый зонт с белыми кисточками.
– Ах, милочка, я вас ещё издалека приметила! – медленно, расставляя каждое слово по своим местам, говорила пышногрудая дама. – Как вы прекрасно выглядите, будь я мужчина, взгляд бы от вас не отводила. Так и смотрела бы, так и смотрела бы! А платье, ах, какое прелестное у вас платье! Как красиво оно облегает вашу чисто девственную грудь!
Притворно восхищаясь плоскогрудой дамой, пышнотелая женщина говорила с лестью, чем явно давала понять собеседнице, что вынуждена говорить именно так, как того требует обстановка.
– Да, что вы, душечка, какое там! Всё уже ношеное и переношенное по несколько раз, первый-то уж не помню когда, а вот нынче уже второй раз одела. Муж мой – Савелий Иванович выписал новое из Парижа, на днях ждём. А вы, как я вижу, всё цветёте, и платье ваше просто великолепное… особенно круглый вырез Шанель. Помню, помню, как вы в нём были на новогоднем балу у губернатора… ещё в прошлом году, и дважды прогуливались в нём прошлым летом. Сидит на вас как литое, смело открывает вашу полную грудь, готовую и без того выпрыгнуть из вашего столь изумительного платья. С уверенностью могу сказать, мужчины, позволь вы дольше, нежели приличествует, останавливать им свой взгляд на вырезе вашего платья падали бы у ваших ног бездыханными.
– О, нет! Пусть живут! – улыбнувшись, ответила душечка.
Внутренне смеялись женщины над своим как бы несуразным диалогом, однако, несущим скрытый смысл, понятный только им и заключавшийся в том, чтобы густая толпа горожан, прогуливающихся по проспекту, не смогла понять, о чём они говорят.
– Пусть, себе, думают, что стоят две пустышки и каждая говорит о своём, не вникая в слова собеседницы. Незачем привлекать к себе внимание посторонних лиц. – Так, ещё несколько лет назад решили они вести разговор при встрече на улице.
– А слышали, душечка, к нам из Петербурга губернию проводят!
– Милочка, что вы! Какую губернию? Из Петербурга к нам прибыл генерал.
– Что вы говорите? – ахнула Дарья Захаровна. – Это, какого же он чину, не фельдмаршальского ли? И какой это оказией? – внутренне смеялась она над своими словесными выкрутасами.
– Ясно какой, депутациями.
– Ох, ты ж, Господи! – вновь ахнула милочка. – Как это ново и своевременно! Решительно от всех городов депутациями. Мило, очень мило! Верно, губернию будут проводить, иначе какой резон фельдмаршалу в наш город приезжать.
– Милочка, есть у нас уже губернатор. Зачем же ещё один? И не фельдмаршал вовсе прибыл в наш город, а простой генерал.
– Значит, душечка, бал будет, шампанское и цветы. Верно, фельдмаршал викария привёз из столицы. Вообразите, какой будет великолепный праздник.
– Какой праздник, милочка? Торжественнее нынешней Пасхи уже вряд ли. А вот как попы наши ныне живут, хотелось бы знать. Ничего не слышали об этом от нашей старшей подруги?
– Не видела, давно не видела нашу благодетельницу Клавдию Петровну. А праздник… Что ж… воображаю… несуразный праздник выйдет, а всё ж таки депутация. Как оно того… с фельдмаршалом-то?
– Что ему сделается, милочка? Генералы они приезжают и уезжают. А мы остаёмся. Воображаю, какой выйдет пассаж!
– Фи! Пассаж и фельдмаршал! Как всё это не вяжется с попами.
– Тут, милочка, палёным пахнет!
– Это почему же гарью, душечка?
– А вот начнёт генерал проверку, да как недоимок насчитает, тогда того и гляди головы покатятся.
– Ох, ты ж, Господи! Это как же они покатятся? – всплеснула руками милочка. – А попы-то как? Как с ними? Неужто ничего не слыхать?
– Не слыхать. Как китайский переворот земной поверхности по способу профессора Эрлиха!
– Переворот земной это опасно. Как же мы ходить будем вверх ногами? На головах-то ног нету!
– Христос Воскреси! – подойдя к увлечённо беседующим дамам, проговорила молодо выглядевшая женщина, которой, даже при внимательном её рассмотрении, невозможно было дать более тридцати лет, что не соответствовало действительности, ибо в реальности она перешагнула вторую половину своего третьего десятка лет два года назад.
– Воистину Воскреси! – ответили душечка с милочкой, похристосовавшись с подошедшей к ним подругой – Клавдией Петровной Мирошиной.
– Слышали новость, к нам новый командир полка прибыл из Петербурга, – статный такой полковник, и ещё довольно-таки молодой, лет не более пятидесяти… на вид.
– Генерал, голубушка! – удивлённо воззрившись на новую собеседницу, поправила её душечка. – Генерал, а не полковник!
– Фельдмаршал, любезная Клавдия Петровна, – проговорила милочка. – Фельдмаршал! – поставив точку в разногласии, вызванном воинским званием вновь прибывшего офицера.
– Бог с вами, пусть будет хоть генерал-советник, – махнув рукой, ответила Мирошина. – Только всё ж таки полковник! Один он, без сопровождения генералами и советниками разными, разве что с дочерью прибыл.
– Ещё и полковник? – удивилась милочка. – Генералы, фельдмаршал, советники и полковник! Тут уж, крути не крути, а губернию обязательно делать будут. А только, что слышно о попах наших?
– Какую губернию, Дарья Захаровна? Полковник, говорю, прибыл из Петербурга, с дочерью… и без никого… вовсе. Взамен старого командира полка, ушедшего в отставку. А с попами всё обстоит очень хорошо. Попались голубчики, пропечатали их.
– Вот оно как? – одновременно воскликнули милочка и душечка.
– Радость великая! Обрадовали вы нас, голубушка, благодетельница вы наша, Клавдия Петровна, – восторгалась новой собеседницей душечка.
– А только всё же интересует меня, за какие грехи полковника с его генералами и советниками к нам из столицы сослали? – проговорила милочка. – И куда пропал фельдмаршал?
– За какие грехи сослали не знаю, и что по этому поводу говорят, тоже не слышала. Одно думаю, сильно провинился, коли из столицы в Сибирь. Генералом был в Петербурге и вот нате вам – в Омск, полковником, – ответила Клавдия Петровна.
– А как же фельдмаршал? – не унималась милочка.
– Не знаю. Не видела, ни его, ни генерала, лгать не буду.
– Это ж, откуда, голубушка, вам известны такие подробности, ведь всего лишь вторые сутки пошли, как генералы-то в город прибыли? – поинтересовалась милочка.
– Э-э-э, Дарья Захаровна, молва-то она впереди человека бежит. Да и видела я полковника. Да, Бог с ним, – махнув рукой, – дочку его жалко.
– С ней-то что неладно? – вздёрнув узкие дуги бровей, удивилась душечка. – Али больна?
– Боже упаси, душечка Раиса Николаевна! Здоровей не бывают. Стройна и румяна, в меру упитана, одета чисто, – в шелка и красивую шляпку, только скромности в ней мало. Больно своенравна.
– С отцом груба, что ли? – скривив в удивлении тонкие губы, проговорила милочка.
– Боже упаси, Дарья Захаровна. Полковник-то строг… такому особо не пойдёшь наперекор.
– Откуда же тогда своеволие? – удивилась душечка.
– Кто ж знает, как оно такое образуется. Видно таковой уродилась.
– Господи, Боже мой, несчастное дитя! – покачала головой душечка. – А как же гувернантки, учителя разные, да и сама матушка её? Они пошто не углядели?
– Вот я и говорю, с норовом таким уродилась, – проговорила Клавдия Петровна, подытожив слова подруг лёгким кивком головы.
– Беда и только! – тяжело вздохнула душечка. – Одна радость, попов пропечатали.
– Бедное дитя, никакого пригляду… сама по себе, как одинокая былиночка растёт, – горестно проговорила милочка. – Бедный, ущербный ребёнок! А с попами это хорошо. Не зря трудились.
– Какой же она ребёнок, Дарья Захаровна!? – поправила подругу Клавдия Петровна. – И не ущербная вовсе! В здравом уме! И на выданье уже! А с попами всё ладно вышло. Ладно, очень ладно… Аж душа поёт!..
– На выданье!? – удивились душечка с милочкой.
– Не ущербна… Это хорошо! Сколько ж ей годков-то? – вопросительно взглянув на Клавдию Петровну, проговорила милочка.
– Да уже не годков, а целых лет! Говорят, семнадцать, а то и все восемнадцать, а кое-кто поговаривает, что все двадцать, а только я думаю, что и того боле. Видела её, правда вскользь, но скажу вам, дорогуши, не ребёнок она. Скрывать не буду, стройна, высока, на лицо мила, но уж больно горда. Ни на кого не смотрит, голову прям аж вот так держит. – Опустив долу глаза, Клавдия Петровна, показала, как именно держит голову дочь полковника.
– Ох, ты ж, Господи, Боже мой, как же она с такой перекошенной головой ходит-то. Так-то совсем, прям, неловко, неуклюже как-то. Надо бы прописать и про это. Уж больно интересно, – предложила милочка Дарья Захаровна, склоняя голову вправо, влево и вытягивая вперёд, чем вызвала улыбку на губах подруг.
– Вот так и ходит. Вся, прям, из себя такая… гордая. Мы для неё вовсе как бы и букашки. Ходит, голову набекрень и не видит никого вокруг, – возмущалась Клавдия Петровна.
– Э-хе-хе! А красива, говорите? Ведь так? – спросила Клавдию Петровну душечка Раиса Николаевна.
– Красива, это у неё не отберёшь. Ох и вскружит она головы многим нашим офицерам… Потерпят они от неё горя, вот попомните меня, дорогуши, – ответила Клавдия Петровна.
– Да-а-а, что верно, то верно! Красивые они все такие! – горестно вздохнула душечка, мысленно завидуя молодости полковничьей дочери и её, как сказала Клавдия Петровна, умению завораживать молодых мужчин, которым с некоторых пор перестала доверять.
Раису Николаевну можно было понять, из бедной дворянской семьи, в восемнадцать лет, окончив гимназию, была вынуждена пойти на работу, чтобы содержать себя и сестру. Полутёмная пыльная комната канцелярии подрывали её здоровье, но другой работы не было и вот уже восемь лет она, примирившись с неизбежностью, тянула «непосильную лямку». Непосильную, потому что материально помогала своей младшей сестре, хотя та получала стипендию. Так сложилось, что на второй год после окончания Раисой гимназии, погибли родители и на неё пала забота о шестнадцатилетней сестре Татьяне. И хотя попечительский совет Омска определил Таню в Петербургский сиротский институт, Раиса ежемесячно отсылала ей треть своей зарплаты, хотя, фактически, сестра в деньгах не особо нуждалась. Пять лет прошли в заботах о сестре, вроде бы и жизнь Раисы стала приобретать смысл, ей было уже 23 года, но всё разрушилось в один миг, её предал жених. Если бы не подруги – Дарья Захаровна и Клавдия Петровна, неизвестно, чем она кончила, ибо в тот период в неё проникла жуткая мысль – броситься, как Анна Карена под поезд. С тех пор прошло три года, сестра вышла замуж, Раиса Николаевна смирилась со своей судьбой, но всё же жила надеждой обрести большую дружную семью и любящего мужа. В двадцать шесть лет это было физиологически возможно, но не реально, она всё ещё была одинока.
Милочка – Дарья Захаровна в противоположность душечке – Раисе Николаевне была очень счастлива. Савелий Иванович Прохоров, – её муж, любил милочку всей душой и сердцем и шёл на любые расходы, порой непосильно большие, чтобы угодить любой прихоти жены, всё ещё красивой, как и в восемнадцать лет, женщине, с которой жил в мире и согласии пять лет. И Дарья Захаровна за любовь его и заботу платила ему верностью, и особо не требовала от него разнообразных нарядов. Лишнюю копеечку старалась сберечь и на скопленные деньги баловать сладостями, новыми платьями и куклами любимицу, – четырёхлетнюю дочь Глашеньку.
Клавдия Петровна – тридцати семилетняя женщина была не только старше своих подруг, – с устоявшими взглядами на жизнь и общество, она руководила ими как литературный наставник. Все три женщины объединились в негласный, тайный литературный кружок, – писали рассказы и отправляли их в столичные литературные журналы, но ответ не получали. Клавдия Петровна из дворянской, довольно-таки состоятельной семьи, в детстве росла дурнушкой и родители, посматривая на её круглое лицо и полное тело с широкой талией – одного размера с бёдрами, часто задумывались о том, каково придётся их дочери в годы зрелости, когда сформируется как женщина. Уже с её двенадцати лет проводили смотрины, в которых негласно, как бы шутя, предлагали своим гостям, у которых были потенциальные для дочери женихи, крупные денежные суммы с дарением четверти своей недвижимости. Но Бог миловал от такого унижения. К восемнадцати годам «дурнушка» превратилась в гордого и стройного «лебедя», за которой стали увиваться отпрыски из очень богатых семей. Итог: в восемнадцать лет вышла замуж за сына богатого горожанина и с тех пор уже девятнадцать лет правила им и его капиталом, который многократно возрос со смертью свёкра.
У мужчин, праздно гуляющих по проспекту и мельком бросающих взгляд на эту милую женскую троицу, возможно, возникал вопрос: «Что связывает двух красивых, но не знатных женщин с женой гласного омской городской думы Мирошиным Николаем Петровичем – известным всему городу промышленником?» Но ответ на него никто не знал. А, может быть, данный вопрос вообще не существовал? Может быть, это мнилось женщинам и оттого они вели меж собой столь каламбурный разговор? Но, как бы то ни было, разговор вёлся, как вёлся, и в головках подруг кружились слова: «Что они все смотрят на нас? Им, что… других дел мало?! А у мужчин, если и витал относительно них какой-либо вопрос, то всего лишь лёгкой дымкой и до тех пор, пока был интересен, если был интересен вообще, ибо были более привлекательные молоденькие девицы. И всё же если кто-то из мужчин и скользил взглядом по подругам, то видел в них то, что они хотели показать, в действительности же все три женщины были незаурядными и сильными личностями.
– Сегодня, по случаю Пасхи, – Светлого Воскресения Христова, жду вас у себя на ужин. Полковник с дочерью будут. Познакомитесь и удовлетворите своё любопытство, милочки. Непременно приходите! Кроме всего прочего, у меня для вас есть подарки, – мило улыбнувшись, проговорила Клавдия Петровна и, подхватив подруг под руки, предложила пройтись по праздничному проспекту.
Вечером этого дня полковника Пенегина с дочерью и ещё четырёх известных людей города принимал у себя дома надворный советник Николай Петрович Мирошин – гласный омской городской думы.
Для своего времени Мирошины были довольно-таки прогрессивной семьёй, свободной от застарелых предрассудков, доставшихся России от староверов массово расселившихся по Сибири. Вместе с хозяевами и гостями за столом всегда сидели их дети, даже если это был стол со спиртными напитками. Так взрослые вводили своих отпрысков в жизнь города и России, а в целом и всего мира.
– Дети с ранних лет должны жить жизнью страны, так вырабатывается в них любовь к родине и зреет патриотический дух, – говорил Николай Петрович и все соглашались с ним, или делали вид, что соглашаются, но в любом случае не противились тому, чтобы вместе с ними за одним столом сидели и дети. Конечно, были некоторые ограничения, дети усаживались не рядом с родителями и не в центре стола, а на его дальней стороне, где хозяйские дочери и их ровесники – юноши и девушки, могли вести свой разговор, и по собственному желанию выйти из стола для организации игр.
За праздничным прекрасно сервированным Пасхальным столом, – слева от хозяина, сидела его жена – Клавдия Петровна, по левую руку от неё расположилась её подруга Раиса Николаевна, следом сидела Дарья Захаровна с супругом Савелием Ивановичем Прохоровым – государственным служащим. По эту же сторону стола были предоставлены места Тиллинг-Кручининым – антрепренеру драматического театра Николаю Дмитриевичу и его супруге Екатерине Антоновне.
Почётное место за столом, – справа от хозяина дома, было предоставлено его сиятельству полковнику Пенегину, рядом с ним сидел начальник телеграфа с женой, далее инспектор народных училищ и его жена.
– Прекрасная у вас дочь, Григорий Максимович, – образована, скромна и очень красива. Уверена, она будет хорошей подругой нашим шестнадцатилетним дочерям – Анне и Галине. Они почти ровесницы. Вашей-то Ларисе верно столько же лет, как и нашим девочкам – шестнадцать, – мило улыбаясь, восторгалась дочерью полковника хозяйка дома.
– Вы правы, любезная Клавдия Петровна, моя дочь не на много старше ваших дочерей, всего на два года, а это ничего не значит в их прелестном юном возрасте. Конечно, я буду рад, если ваши чудесные девочки и моя дочь станут подругами, – поклонившись хозяйке дома, ответил князь.
– Так вы, дорогой Григорий Максимович к нам из самой столицы?! Что же, позвольте вас спросить, если это не государственная или личная тайна, заставило вас покинуть Петербург? – обратился к князю хозяин стола – Мирошин.
– Неотложные государственные дела по военному ведомству, Николай Петрович. Да, вы и сами, естественно, знаете, что Генеральным штабом мне поручено формирование нового полка.
– Конечно, как государственному человеку мне это известно, и приказано оказывать всяческое и полное содействие в формировании вашего полка, только всё ж таки не возьму в толк, с какой целью. Ведь это большие расходы… казармы, плац и всё такое… и ладно бы вблизи наших границ, а тут… в глубинке. Мнится мне, что никак к войне готовимся, только вот с кем? С Японией у нас вроде как замирение, с Турцией тоже, слава Богу, в мире живём, со стороны Европы и намёка нет на войну. Хоть убейте, не пойму я всё это, Григорий Максимович.
– Моё дело военное, уважаемый Николай Петрович, приказ исполнить… точно и в срок.
– Хлопотно! Верно, очень хлопотное это дело?! – сочувственно посмотрела в глаза полковника хозяйка дома.
– Не без этого, уважаемая Клавдия Петровна, – пригубив из рюмки коньяк, ответил полковник. – Не без этого. Много, очень много сил и средств потребуется для столь важного государственного дела, но ваш муж, – кивнув в сторону хозяина дома, – и все присутствующие здесь, – окинув взглядом сидящих за столом, – как и я, естественно, приложим все силы и в срок доложим Государю Императору, что не зря едим государев хлеб.
– Да, да, само собой разумеется! Непременно! Во что бы то ни стало исполним свой долг! – понеслось со всех концов стола.
– Вот и чудесно! Вот и замечательно, господа! – торжественно заключил Пенегин.
– А скажите, уважаемый Григорий Максимович, когда же приедет и удостоит нас своим вниманием ваша супруга? – обратилась к полковнику Дарья Захаровна.
– К сожалению это не возможно, – тяжело вздохнув, ответил полковник.
Все сидящие за столом вопросительно воззрились на князя, но промолчали. Не удержалась от вопроса к нему лишь Екатерина Антоновна, любопытная женщина, о дотошности которой явно говорил испытующий взгляд её пытливых глаз, застывших на Пенегине.
– Что так? – спросила она князя, вытянув шею в его сторону. – Или город не по нраву? Мне так он очень люб, хотя я живу в нём совсем недолго. Прекрасный, изумительный город! А какой чудесный здесь драматический театр. Ах, как здесь всё ново и необычно. Прелесть! Прелесть, господа!
– Солнышко моё, дай сказать слово его сиятельству. Он, уверен, не менее нашего восхищён Омском, хотя, естественно, это не Петербург, но, скажу вам, господа, здесь можно жить… и очень даже интересно и плодотворно. Очень чистый, культурный город! – остановив супругу, изрёк тираду лестных слов о городе Тиллинг-Кручинин.
– Да, да, так что же задерживает вашу супругу, дорого́й Григорий Максимович? – остановил долгую реплику антрепренера, вдруг заинтересовавшийся семейным положением полковника Мирошин.
– Я понимаю вас, господа. Мужчина… один, с взрослой дочерью… это очень странно и, возможно, кому-то сие покажется даже ненормальным, но уверяю вас, в моём случае ничего таинственного нет. Я понимаю, что в обществе скоро пойдут, хотя, – махнул рукой, – уверен, уже идут разговоры относительно моего приезда в славный город Омск, поэтому отвечу на ваш вопрос и устраню все ненужные кривотолки касательно меня и дочери. Собственно, я и хотел это сделать, но только некоторое время спустя, – в отсутствие моей дочери, ибо всякое напоминание ей о её матери, мой жене, вновь вскроет в ней начинающую заживать рану. Сейчас её с нами нет… рад, что она нашла новых подруг, и они увлекли её в сад, поэтому отвечу на волнующий всех вас вопрос.
Немного помедлив, князь продолжил:
– Вы, возможно, обратили внимание, что Лариса очень молчалива. А когда-то она была подвижной и очень весёлой девочкой, улыбка не сходила с её лица, впрямь Наташа Ростова из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», но всё перевернулось в один миг. В один из таких же, как сегодня весенних дней моя милая жена Ксения Гавриловна, – князь без стеснения смахнул слезу, – шла от модистки и попала под машину. Об этом писали все столичные газеты, шофёра оправдали, сказали, что женщина – моя жена погибла по своей вине. Задумалась, вышла на дорогу, не посмотрела по сторонам, и вот такая трагедия. С её уходом от нас… земля ей пухом, – князь перекрестился, – с лица дочери слетела улыбка, она замкнулась в себе, стала малоразговорчива и скрытна. Боясь за здоровье дочери, я отправил её на некоторое время к моей матери в имение. К осени она несколько унялась от постигшего нас горя, как говорится, время лечит, но я понимал, что по прибытии домой, всё – стены и обстановка комнат вновь напомнят ей мать и Лариса замкнётся в себе, что, обязательно скажется на её здоровье. И я решил, как бы это ни было нам тяжело, проситься на службу в какой-нибудь отдалённый гарнизон. Мою просьбу удовлетворили, но лишь через год. Всё это время дочь была с моей матерью в её поместье, я навещал её по мере возможности, но оставлять Ларису в деревне не входило в мои планы, ей нужно общение с равными ей по положению молодыми людьми и подругами. Покинув столицу, напоминающую нам о нашей семейной трагедии, мы приехали в Омск. Вот такова горестная история нашей жизни, господа. Всё это я рассказал вам не с целью поиска утешения или сочувствия, боль потери никогда не пройдёт, разве что немного притупится, а чтобы не было ненужных толков по поводу нашего приезда в ваш замечательный город. Воинская служба почётна везде, а дочь, уверен, найдёт здесь участливых людей и понимание в обществе своих сверстников. Одно беда, моя Лариса сверх меры стеснительна и архинаивна, ну, прямо, как дитя, хотя уже в июне пятого ей восемнадцать.
– Трагично, очень трагично и прискорбно когда из жизни уходят вполне здоровые люди. Но не будем тревожить душу нашего уважаемого Григория Максимовича и перейдём в курительную комнату, а потом поиграем в вист. Как вы смотрите на это предложение, господа, – спросил гостей хозяин дома.
Отказа не последовало, и все мужчины последовали за Николаем Петровичем в игровую комнату.
Женщины перешли в зал с роялем, где могли спокойно поговорить о простых житейских делах, поделиться женскими секретами, насладиться сладостями и спеть у рояля слёзные романсы о любви. Здесь Клавдия Петровна тайно от других женщин вручила своим подругам – душечке и милочке, по одному экземпляру литературного столичного журнала, в котором под псевдонимом – Кладар был напечатан их совместный рассказ «Поп Фотий». Кладар – значит: Кла (Клава) Да (Дарья) Р (Раиса).
– Я так и предположила, что упоминаемый нами поп, это и есть наш рассказ. Ах, как я счастлива! Наконец-то нас напечатали! – сияя глазами, восторгалась Раиса Николаевна.
– Ничего удивительно, милая подруга. В моих мыслях не было обратного. Надеюсь это, хоть и первое, но не последнее наше творение, – ответила Дарья Захаровна. – Есть мысль написать рассказ, в основу которого положить семейную драму князя.
– Ни в коем случае. Мы не имеем права бередить рану в душе князя, тем более в душе его славной дочери. Ни в коем случае! Я подумаю, о чём нам писать, а пока позвольте мне заняться другими женщинами. Неловко получается, хозяйка покинула их и секретничает о чём-то лишь с вами. – Извинившись, Клавдия Петровна покинула подруг.
В игровой комнате шла спокойная непринуждённая беседа.
– Некультурный у нас народ, господа. Вот нынче проезжал я в пролётке по проспекту и видел безобразную картину. Прямо за углом драматического театра мужик справлял нужду. Я пальцем ему погрозил, а он… Что бы вы думали, господа, он сделал?
– Да кто ж его знает, батенька? – ответил Савелий Иванович.
– Погрозил мне пальцем в ответ, и как справлял нужду, так и продолжал её.
Раздался смех, вслед за которым, антрепренер Николай Дмитриевич проговорил.
– Прискорбно, очень прискорбно, господа, что не приучен наш народ к порядку и культуре.
– Полно те вам, Николай Дмитриевич! Приучен и намного более, нежели культурная Европа. Тфу на неё! – высказался Митрошин. – Не в этом дело.
– Не понимаю вас, уважаемый Николай Петрович? А в чём же тогда, позвольте вас спросить? – удивился Прохоров.
– В отсутствии общественных туалетов, дорогой вы мой, Савелий Иванович. В отсутствии, да-с! Только в этом! Пошёл бы мужик за угол, если рядом был туалет? Нет-с! Нужду справлять сподручнее в нужнике, а не на людях. Прихватило его, вот вам и результат.
– В таком случае вам, как гласному городской думы и нужно позаботиться об этом, Николай Петрович.
– Да-а-а-с, да-а-а-с! – задумчиво протянул Мирошин. – Непременно позабочусь. Только не всё так просто… как кажется на первый взгляд. Поставим мы нужники, а они вид города будут безобразить. Нет, здесь нужен особый подход, чтобы, значит, лицо города не уродовать, и к делу справно подойти.
– Ответственная у вас должность, Николай Петрович, – заискивающе вздохнул Тиллинг-Кручинин. – У меня театр и то дел невпроворот, а у вас весь город. Это ж, какую надо великую голову иметь, чтобы всё в ней держать и обо всём заботиться.
– Что верно, то верно. Весь город на мне, – распрямив плечи, гордо вздёрнул голову Мирошин… Оно, хоть я и не градоначальник, а всё ж таки и у меня дел невпроворот. – Вот сейчас вновь остро поднят вопрос со спекуляцией. Уж очень сильно выросла она по сравнению с прошлым годом. В пункте номер 1 обязательного постановления господина томского губернатора от 16 ноября прошлого года прямо сказано, что скупка со спекулятивной целью хлеба и других съестных припасов и вообще сельскохозяйственных произведений в определённые часы воспрещается. И что же мы видим? Прасола беспрепятственно скупают продукты в незаконное время и тем повышают цены на них. Владимир Александрович Морозов – нынешний новый градоначальник, хотя ещё и не утверждён в должности, а за дело взялся серьёзно. Дал распоряжение полиции, городовым и базарным смотрителям, чтобы те пресекали любую спекуляцию. А то до чего дело дошло… безобразие и наглость!
(Прасол – устаревшее название оптового скупщика скота и разных припасов /обычно мяса, рыбы/ для перепродажи).
– Верно! Верно, Николай Петрович. Безобразие и полнейшее отсутствие совести у этих, мягко выражаясь, нехороших людей, – поддержал Мирошина антрепренер.
– И я с вами со всеми, господа, полностью согласен, – раздавая карты для нового кона, проговорил Савелий Иванович. – Давеча пришла моя кухарка домой и жалуется. – Непомерно, говорит, цены на овощи выросли. Днём ранее, одна цена была, а сегодня на пять, а то на семь и даже десять копеек выросла. Оно, конечно, с нашим доходом это не особо накладно, – гордо вскинул голову, показывая этим свою материальную безбедность, – но всё же… – и с показной заботой и сочувствием к народу, – каково простому потребителю? Спекуляция прасолов сильно отзывается на бюджете городских жителей… да-с!
– Что верно, то верно, Савелий Иванович. Все мы страдаем от перекупщиков! – вступил в разговор Пенегин. – Как ни крути, а копеечка никогда лишней не бывает. По мне оно, как-то даже и не особенно хочется её спекулянтам отдавать. Было бы оно на доброе дело, – город обустроить, или ещё на что полезное для народа, так оно, конечно, а иначе никак нельзя. Да-с! Да и крестьяне тоже страдают от этого. Потребитель переплачивает, а производитель недобирает, и всё это на руку спекулянту.
– По мне бы всех дармоедов судить и на каторгу, чтобы неповадно было… так такого закону нет… штрафами отделываются. А штраф для них, что слону дробина! Кроме того и поймать их на перекупке не так-то просто, – гневно заключил Николай Петрович.
По окончании праздничного вечера хозяин дома напомнил гостям о скором майском торжестве.
– Шестого мая, господа, торжество в честь дня рождения Государя Императора Николая II, – сказал он. – Для горожан управа организует народные гуляния, оркестр казачьего войска, призовые скачки. А вы, Николай Дмитриевич, – обращаясь к антрепренеру, – поставьте в театре и в парке спектакли и музыкальные концерты, приспособьте для этого и здание манежа. С вас, уважаемый Григорий Максимович, парад, непременно парад воинского гарнизона. По окончанию парада, для чиновников и видных горожан, как это принято, устроим торжественные обеды, ужины, балы и маскарады. Для всех других горожан организуем народные гуляния с бесплатными развлечениями, – качелями, выступлениями военных оркестров, фокусников, акробатов. Из городской казны бесплатно угостим солдат гарнизона. Прекрасный будет праздник, поверьте, господа! Прекрасный!
…
Тёплый вечерний воздух приятно освежал полковника Пенегина, его дочь Ларису и Раису Николаевну. После душных комнат дома Мирошина, – прокуренных мужчинами и ароматизированных духами дам, неспешная прогулка по проспекту была приятна телу и душе Раисы Николаевны, взявшей под руку полковника, как и ему самому, предложившему проводить её. Шли не спеша, не видя и не слыша возбуждённых праздником горожан, молча слушали друг друга.
– Чудесная женщина и милой внешности, – чувствуя приятную тяжесть руки Раисы Николаевны на своей согнутой в локте руке, мысленно говорил полковник, и невольно прижимал руку женщины к своему боку.
– Как вам, Григорий Максимович, показался Николай Петрович – наш думский гласный и один из богатейших людей города? – разряжая обстановку после затянувшегося молчания, проговорила Раиса Николаевна, осторожно прижимая руку полковника к своему боку.
– Приятный человек и очень гостеприимный хозяин, – вспыхивая жаром от ощущения округлой упругости женщины, ответил полковник.
– Да, вы очень правы, Григорий Максимович. Очень приятный и гостеприимный человек наш уважаемый Николай Петрович. А Клавдия Петровна просто прелесть. Не находите?
– Очень даже нахожу, Раиса Николаевна.
– И Дарья Захаровна с супругом Савелием Ивановичем очень приятные люди.
– Да, очень приятные!
– А ещё мне понравилась чета Кручининых, – наш новый антрепренер драматического театра Николай Дмитриевич и его супруга Екатерина Антоновна.
– Очень культурные и образованные люди, – горя лицом и телом, вновь сдержано ответил князь.
– Стеснителен, очень стеснителен мой провожатый, но милый, – мысленно улыбнулась Раиса Николаевна и обратилась к Ларисе с вопросом о её новых подругах. – А как тебе, милая, новые друзья?
– Анна и Галина очень хорошие девочки, – не менее сдержано, чем отец, ответила княжна.
– И только-то?
– Ещё они очень дружны.
Так и шли, Раиса Николаевна под руку с Григорием Максимовичем и рядом с ними Лариса, под краткие сдержанные вопросы и скупые ответы, под всё ещё громыхающий колокольный звон и весёлый смех прогуливающихся по проспекту горожан.
Подошли к дому Раисы Николаевны. На прощание полковник поцеловал её руку и пошёл, не оглядываясь, к стоящей невдалеке пролётке. Оглянулась Лариса, Раиса Николаевна смотрела им вслед. Обе помахали руками и улыбнулись.
– Мне Раиса Николаевна понравилась, очень приятная женщина. Она располагает к себе и даже чем-то напоминает маму… Наверно своим спокойным голосом, – тяжело вздохнув, проговорила Лариса. – А как тебе, папа?
– Приятная женщина, – ответил князь. – Действительно, чем-то очень похожа на маму.
…
Дома, улыбаясь своим мыслям, Раиса Николаевна перебрала в памяти все минуты, проведённые с князем Пенегиным.
– Скромен, непомерно скромен и очень приятный… даже внешне…
Затем с трепетом вскрыла конверт, врученный ей Клавдией Петровной, и, вынув из него подарок – новый номер столичного литературного журнала, с осторожным трепетом влилась в него лицом и с огромным наслаждением вдохнула его запах.
– Чудесный аромат! О! как приятно он благоухает! – прикрыв глаза, проговорила она и открыла журнал. Первым из всех напечатанных рассказов был «Поп Фотий».
Спать не хотелось. Сняв с себя простенькие украшения и скинув платье, Раиса Николаевна взяла в руки журнал и, удобно устроившись в постели, приступила к чтению рассказа.
Поп Фотий
После утренней проповеди поп Фотий собрал прихожан в церковной сторожке и повёл речь:
– Собрал я вас, братья, по очень важному делу. Уходит из нашего села отец Тимофей, и мы остаёмся без дьякона. Хлопот мне, конечно, прибавится, только вам это в благость.
– Пошто же в благость? – разнеслось по сторожке.
– А вот посудите сами, во что он вам обходится?
– В копеечку! В большую копеечку! В рублики, если взять, к примеру, год! – понеслось со всех сторон.
– Во-о-о! То-то же! В рублики! А нужно вам это? – спросил и сам же ответил на поставленный вопрос. – Нет! Не нужно! Вот я и советую вам похлопотать перед церковным начальством, что в городе нашем Омске обосновалось, чтобы дьякона у нас совсем не было. Если вы согласны, чтобы дьякона в нашем селе вовсе не было, сбавлю я с молебнов по 5 копеек, с крестин и венчание рублик уступлю, да ещё и угощу сейчас же.
– Что ж не согласны. Нам дьяк без надобности, от него одни расходы. Ты, батюшка, у нас молодой, без дьякона управишься, – громко заговорили мужики.
– Коли так всё вышло, без заминки и задоринки… не нужной, то сейчас вот прямо и подпиши́те бумагу. Я уже и подготовил её, чтобы не задерживать вас на долгое время. Подпи́шите, отошлю её в Омск и живите с миром и в радости. Денежки ваши сохраннее будут и в рост пойдут.
– То, что сохраннее, это понятно, – сообразили крестьяне. – Только не понятно, отчего же они в рост идти будут? Али банк у нас в карманах? Дак они у нас дырявые, в них деньги не удерживаются.
– Смешные вы люди, как погляжу на вас, – покачал головой Фотий. – Денежки, что от дьякона останутся, лишние у вас будут. А зачем, спрашивается, им зазря лежать? Незачем! Вы их мне сейчас передайте, а я их с бумагой в город отвезу и в городской банк покладу. Вот они в рост-то и начнут расти. А как год пройдёт, вы проценты ваши заберёте, а оставшиеся денежки, с новыми поступлениями, вновь расти станут. Года через три – четыре каждый из вас новый дом, али скот какой-либо купит. Богато жить станете, не то, что по нынешним временам.
– Почесали мужики, кто затылок, кто бороду, а кто всё вместе, посовещались и сказали:
– Ты, батюшка, молодой и учёный, оно, конечно, хорошо, если бы оно так, только откель же у нас деньги? Не куём и не печатаем их. Так что повременим до лучших времён. Как насобираем на дьяконе, вот тогда и речь вести об этом зачнём.
– Эх, не получилось! – мысленно ругнулся себя отец Фотий. – Видно, не правильно речь держал. – Ну, Бог даст, доживём до праздников, а там что-нибудь придумаю.
Подписали мужики бумагу, достал Фотий из кармана деньги на три ведра вина, отдал им и удалился.
– Вот же, окаянные. Хитры, не полностью удался мой план, но ничего, придумаю что-нибудь. И придумал.
Наступили праздники, отправился батюшка по приходу с молебнами. Отслужил у первого крестьянина, стал деньги за свою службу требовать. Подаёт ему мужик на 5 копеек меньше прежнего, а Фотий спокойно и говорит:
– В рост отдал бы свои деньги, ни копеечки с тебя не взял, а высчитал в конце года из твоей прибыли, а так, будь добр, плати, как и прежде. Тебе пять копеек ничего не стоит, а мне убыток.
Пришлось мужику раскошеливаться.
– Э-хе-хе! Задарма пропили дьякона! – сказал мужик уныло.
Отец Фотий в ответ:
– Не понимаешь ты, серая твоя душа, что это благость для тебя, тёмный ты человек. Чем хуже здесь, тем лучше там, – вскинул голову вверх. – Чем тяжелее здесь, тем большей сторицей будешь награждён на небесах.
На следующий день в село прибыл новый дьякон. Не утвердило омское епархиальное начальство бумагу с просьбой крестьян села Дурново не назначать нового дьякона.
Отец Фотий был взбешён.
– Лживые вы, бессовестные, пьяницы и развратники, – потрясая кулаком, кричал он. – Следовало бы взять золотые цепи на шеях ваших, свернуть их петлёй и удавить всех. Буду громить вас во всех моих проповедях, пока не сгинете, как упал с высоты своего поста, благодаря мне, молитвам моим, неугодный судья Баламутов. Доит коров и разводит кур сейчас, будь он проклят, так ему и надо, злыдню окаянному! А только не оставлю я так дело, всё одно изведу нового дьякона, сам убежит… только сверкать пятки будут. Ишь, что удумали, пируют, пьют, развратничают, а я хочь по́миру иди… с рукой протянутой. Не быть ентому! – крикнул Фотий и погрозил всем своим врагам кулаком.
Из прошлого отца Фотия.
Служил отец Фотий в церкви города Омска. Хорошо служил, нареканий ни от прихожан, ни от начальства не имел, хитёр был, но до определённой поры. Случилась у него ссора с псаломщиком. Проведал тот, что отец Фотий чёрен на руку, решил вывести его «на чистую воду», но не задарма.
– Вы, батюшка, деньги из церковной казны воруете, сам видел, – сказал псаломщик Фотию. – Не хорошо это, надо бы делиться. Не дай Бог, кто прознает, беды не оберётесь.
– Пошёл прочь, пёс паршивый, – закричал на псаломщика Фотий.
– Я могу и пойти, – спокойно проговорил псаломщик, – только смотрите, батюшка, как бы Бог не разгневался на вас. Большая беда может приключиться.
– Ты ещё здесь, поганец! – ещё сильнее возмутился отец Фотий и замахнулся на псаломщика массивным крестом, что свисал с его шеи на толстой цепи до объёмного живота.
– Подожду до завтра, а потом сообщу, куда следует, – спокойно проговорил псаломщик и, отвернувшись от разъярённого батюшки, пошёл прочь.
– Ну, погоди у меня, поганец! Я покажу тебе как против меня идти! Со свету сживу! – негодовал Фотий.
На следующий день во время богослужения между отцом Фотием и псаломщиком вновь произошёл крупный разговор. Желая наказать и принизить псаломщика перед прихожанами, батюшка поставил его на колени перед царскими вратами.
Псаломщика это нисколько не смутило. Стоя на коленях, он продолжал поносить Фотия нелестными словами, называл его вором.
Священник, видя, что наложенная на псаломщика епитимия нисколько не действует, и что дальше продолжать службу нет никакой возможности, преспокойно снял с себя ризы и вышел.
Псаломщик видя, что остался полным господином в церкви, преспокойно встал с коленей, по-театральному раскланялся с мирянами и произнёс:
– Господа, окончание будет завтра!
После этого вышел из церкви и пошёл в известном только ему направлении. Через неделю докладная на Фотия лежала на столе омского епархиального начальства.
А ещё через месяц псаломщик ликовал.
– Не хотел делиться, получай, что заслужил! – мысленно восклицал он, поглядывая с ехидной ухмылкой на отца Фотия, отбывающего к новому месту службы – в село Дурново.
Но радость псаломщика была преждевременна. На следующий день он был уволен со службы без объяснений.
…
Жизнь в селе Дурново шла своим чередом. Крестьяне работали, отец Фотий нёс службу, дьякон помогал ему в богослужении – читал Евангелие. Всё было чинно и благопристойно, не спокойна была только душа Фотий, его тяготил пустой карман. А всё из-за нового дьякона, которого он пока не мог понять. И всё же природная жадность изредка брала своё, лишняя копеечка появлялась в его кармане.
– Сегодня всего пять копеек, а могла бы быть полтина, – горестно вздыхал он, перебирал в кармане пятак, и проклинал дьякона. – Что за человек, – жаден или щедр, спесив или кроток, злобен или добр. Всё это следует выяснить, а для этого требуется время, которым я не располагаю, – говорил он себе, мысленно расставляя силки на дьякона.
– А приглашу-ка я его к себе и выставлю на стол вино. С вином язык быстро развязывается. Глядишь и выясню, кто он таков, и что из себя представляет. Решено! – Поставив точку в своих мыслях, несколько успокоился. – Сейчас главное не торопиться, всё провернуть обдуманно.
В сельской церкви произошло явление, доселе невиданное.
Утром, один из трапезников, войдя в помещение церкви, увидел двенадцатилетнего сына крестьянина Семёна Фёдорова Тёлкина – Павла. Был удивлён и потребовал от мальчика объяснений. Тот молчал и хотел убежать, но был остановлен всё тем же трапезником. При бегстве из карманов мальчика посыпались деньги. Обыскав его при свидетелях, вошедших в это время в церковь, трапезник обнаружил у Павла достаточно крупную сумму. В носовом платке у ребёнка было найдено 9 рублей 78 копеек, в карманах 11 рублей 93 копейки и в рукавице ещё 2 рубля 13 копеек. Итого с деньгами, поднятыми с пола, было насчитано 27 рублей 58 копеек. В краже денег Павел Тёлкин сознался. Сказал, что деньги уворовал по наущению дьякона, взломав металлическим прутком один из верхних пробоев, а второй просто выдернув.
Село вскипело от столь невероятного случая и разделилось на два лагеря. В одном говорили: «Так ему и надо, много денег берёт за молебны!» Другие не поддерживали первых, говоря, что всё это недоразумение и наговор.
– Приедут, разберутся! А Телкины всем известны, те ещё хапуги, сын их с малолетства уже побирается, то у лавки сидит, то сети в озере обирает, – не раз запримечен был за этим занятием, – воровством, значит, – говорили крестьяне второго лагеря.
Сельский писарь о столь печальном случае – воровстве из церкви, сообщил в волость. Приехал полицейский и незамедлительно повёл расследование, в котором факт воровства Павлом – малолетним сыном Тёлкина Семёна Фёдорова подтвердился.
– И как же ты пошёл на воровство? Кто надоумил?
– Ясно кто, диакон наш. Он мне кулёк конфет в фантиках дал, и спросил, могу ли я ночью в церковь залесть? А туда залесть проще пареной репы. Сказал, что могу. Я ещё спросил его, зачем ночью-то, когда можно днём спокойно зайти и помолиться. Ночью-то все святые тоже спят, они же тоже люди, им тоже без сна никак нельзя. Значит, молитву они не примут.
– Так, так! – постукивая носком сапога по полу, задумчиво проговорил полицейский. – И что же нужно было диакону ночью в церкви? Али что своё забыл?
– Не-е-е, – протянул Павел. – Своё ничё не забыл. Сказал, что забыл церковные деньги. Боялся, что могут их уворовать, вот и попросил меня взять их и утром ему передать.
– Что ж не передал? – спросил мальчика полицейский.
– Да я хотел, только не успел спрятаться, – ответил плаксиво. – Церковь рано открылась и меня увидели. А мне деньги совсем не нужны, правда-правда, дяденька полисмен.
– С конфетами понятно. А что ещё пообещал тебе отец Симеон? – спросил напоследок маленького вора приехавший в село полицейский.
– Как деньги ему передам, так сразу двадцать копеек серебром обещал.
На допросе присутствовал дьякон Симеон.
– Было такое? – спросил полицейский дьякона.
– Конфеты давал, не скрываю. Увидел ребёнка у лавки купца Василия Коровина, пожалел, вот и подарил ему кулёк конфет. А о деньгах разговор с ним не вёл и никаких двадцать копеек серебром не обещал.
– А что вы скажете? – обратился полицейский к группе крестьян вызванных для допроса.
– Дак все видели, подавал он ему конфеты, – в голос проговорили крестьяне.
– Вот вам и улика! – проговорил полицейский, закрывая дознание.
…
За три дня до воровства денег.
Пригласив дьякона к себе домой, отец Фотий повёл речь:
– Бедное у нас село. Люди, видели, отец Симеон, в чём ходят?.. В ремках, оборваны, а всё оттого, что нет у них лишней копеечки на обнову, не говоря о том, чтобы дом подправить или скот прикупить. Да, что уж тут, – махнул рукой, и чуть было не смахнул со стола широким рукавом рясы стакан с вином, – детишкам на конфетки и то денег нет.
– Полностью согласен с вами, отец Фотий. Беден у нас народ. Вот надысь видел мальчонку лет двенадцати, оборванный, сопливый, грязный. Молча стоял у лавки купца Василия Коровина и жалобно смотрел на всех. Пожалел я его, купил кулёк конфет в фантиках. Так видели бы вы, отец Фотий, какой он после этого был счастливый. Кажется, большего счастья ему и не надобно было. И таких несчастных детей у нас вся страна. Вот ведь как бывает, при богатой стране народ нищенствует. Почему так? В ум не возьму!
– Что уж тут брать? В ум, али ещё куда… Наше дело церковную службу справно нести, а то, что беден народ, так на это воля божья! Господь Бог бедностью и нуждой рабов своих в этой жизни к жизни светлой в раю готовит. А конфетки… – Фотий призадумался, – конфетки… оно хорошо! Ребятёнку радость.
– Павлу-то… оно, конечно, радостно, а вот душе моей покоя нет.
– Отчего же она страдает? – удивился Фотий.
– Оттого, что рад бы всех детей конфетами одарить, только нет у меня такой возможности. Вот, к примеру, праздники у нас… Что мы делаем? По домам ходим и с молебен деньги берём.
– А как иначе? Церковь надо содержать, да и самим что-то есть надо, – ответил Фотий.
– Понимаю я всё это прекрасно. Не об этом речь, а о том, чтобы меру знать, не отбирать последнюю копейку у труженика. А в праздники бесплатные подарки детям раздавать. Не так бы это и накладно было для церкви нашей.
– Конфетки… – вновь задумчиво проговорил Фотий. – Да, конечно, понимаю… конфетки, подарки. Это хорошо, обязательно продумаю этот вопрос. Мальчонка-то, верно, из какой-то совсем уж бедной семьи?
– Не сказал бы, что совсем. Бедны, конечно, но как все, не беднее других. Да, вы всех здесь знаете, отец Фотий. Совсем уж бедных в нашем селе нет. Тёлкина Семёна Фёдорова – сын… Павлом назвался.
– Вот оно, что… Тёлкина… Семёна Фёдорова, – задумчиво протянул отец Фотий. – Вот и хорошо, – уже оживлённо, – пусть порадуется малец. Благое дело вы сделали, отец Симеон. Благое! Господом Богом зачтутся ваши благие дела.
Поздно вечером, когда уже и собаки спать улеглись, в ставни дома Тёлкина кто-то тихо постучал.
– Кто там? – донеслось из сонных комнат дома.
– Выйди, разговор есть, – кто-то тихо ответил.
– Погодь! – ответил Тёлкин и мысленно. – Черти тебя носят!
Во дворе дома, в тени его, стоял отец Фотий.
– … вот так и сделай, Семён. В долгу не останусь. Сто рублей подарю, а десять, вынув из кармана деньги, – вот, прям, сейчас и вручаю.
– Всё сделаю, будьте спокойны, отец Фотий, – ответил Тёлкин.
– Вот и хорошо! Вот и договорились. Да не забудь, пусть на дьякона всё валит… сын-то… твой.
– Он у меня сообразительный. Сделает! Будь здоров!
Отец Фотий потирал руки.
Через два дня в церкви произошла кража. Дьякона Симеона епархиальное начальство отстояло, не допустило над ним суда, собственно, кулёк конфет, подаренный им ребёнку, был недостаточной уликой для его обвинения. Перевели его с повышением в Омск.
Прошёл год, в течение которого отец Фотий единолично властвовал в селе. Но сколько верёвочке ни виться, а конец всё равно будет.
Проговорился Павлик, – похвастался перед своим ровесником – сыном зажиточного крестьянина Панкова – Федькой.
– А батя мне целый рубль в прошлом годе подарил!
– С каких это щей такой подарок? – хмыкнул Федька.
– А вот с таких! Я дело умное сделал! Вот!
– Знаю я твои дела! Чё-нибудь украл!
– Не чё-нибудь, а целых сто рублей!
– Врать-то!
– А вот и не вру! Вот те истинный крест! – перекрестился Павел. – Из церкви в прошлом годе украл. Слыхал, небось! – гордо вскинув голову, ответил младший Тёлкин. – Только тогда я не взял себе ни копеечки.
– Так все знают, что это ты был. Что такого-то? Все деньги-то у тебя тогда же и забрали.
– А, ну тебя! Ничё-то ты не понимаешь! – махнул рукой Павел. – Батя мне рубль-то дал не за деньги, что уворовал, а чтобы я молчал. Вот!
– Молчал! – усмехнулся Фёдор. – А кто всё высказал полицмену-то? Я что ли, али кто другой? Врёшь ты всё!
– Вот те крест! – вновь перекрестился Павел. – Ничё-то и не вру. А соврал, так батя велел.
– Соврал, не соврал! Ты чё мне мозги баламутишь? Ну тебя, совсем умом завихрился!
– И ничё не завихрился! Я же тебе русским языком говорю, что не вру, а соврал потому, как батька учил, чтобы, значит, отца Фотия не подвести.
– А батюшка-то при чём здесь?
– Ну и дура ты, Федька! Это вовсе не дьякон подговорил деньги-то с церкви украсть, а отец Фотий. Вот! Дура ты и есть дура, Федька, безмозглый!
– Ну, я тебе покажу, какой я безмозглый, голытьба дохлая! – отвернувшись от Пашки, мысленно возмутился Федька и, потрясывая залатанными шароварами, важной походкой понёс домой ошеломительную весть.
Через два дня отца Фотия и его подельника Тёлкина арестовали.
Судили, отправили на каторгу. На одном из этапов между Тюменью и Тобольском они бежали, убив ночью двух из пяти сопровождавших их конвойных, но были пойманы через три месяца в Созоновской волости. В начале ноября их судили в Тюмени военным судом и приговорили к смертной казни через повешение.
Между местными арестантами не нашлось ни одного лица, пожелавшего принять на себя обязанность палача, и таковой был привезён из города Туринска. В 12 часов ночи бывшего священника Фотия, в миру Харитона Николаевича Карамузова, тюремный надзиратель разбудил для следования на казнь. Карамузов довольно спокойно заявил: «Я, ложась спать, предчувствовал, что это последний день в моей жизни».
Затем Карамузов потребовал священника, исповедался, причастился и попросил шубу, сказав, что без неё идти холодно. Оделся и отправился на эшафот.
Приговор был приведён в исполнение в местном тюремном замке.