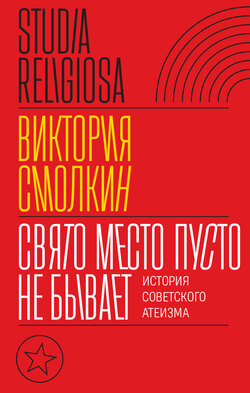Читать книгу Свято место пусто не бывает: история советского атеизма - Виктория Смолкин - Страница 11
Глава 1
Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине
Большевики-просветители
ОглавлениеСогласно учению марксизма-ленинизма, революция создала условия для построения светлого коммунистического будущего, и это будущее должно было быть свободным от религии и по сути своей атеистическим. Но чтобы его достичь, партия по-прежнему должна была играть центральную роль в революционной драме. Ее роль как политического авангарда и путеводного маяка классовой морали состояла в том, чтобы воспитать в «человеческом материале» революции коммунистическую сознательность. Для самой партии завершение Гражданской войны и переход к новой экономической политике (нэпу) означал, что революция прошла стадию борьбы за выживание и перешла к стадии построения нового мира. Теоретик большевизма Лев Троцкий (1879–1940), наиболее четко формулировавший идею культурной революции и нового быта, так писал об этом в своей статье «Не о политике единой жив человек»:
Дореволюционная история нашей партии была историей революционной политики. Партийная литература, партийные организации, все сплошь стояло под лозунгом «политики»… После завоевания власти и упрочения ее в результате гражданской войны основные задачи наши передвинулись в область хозяйственно-культурного строительства, усложнились, раздробились, стали более детальными и как бы более «прозаическими»121.
Религиозность масс, разумеется, принадлежала к наиболее прозаическим аспектам жизни. Поскольку в новом коммунистическом мире не было места религии, партия была вынуждена взяться за преодоление религиозности в сфере культуры и повседневной жизни, или быта.
В принципе, народная религиозность – если она оставалась в секулярных рамках, установленных после революции, – не должна была восприниматься как проблема. Какое дело партии до того, есть ли в домах советских людей иконы, отмечают ли они Пасху и крестят ли своих детей? В конце концов, ни одна из этих религиозных практик не нарушала советских законов; напротив, свобода совести была в числе прав, предоставленных гражданам советской Конституцией. Но для партии секуляризация была не конечной целью революции, а лишь предварительным условием построения нового коммунистического строя. Поскольку религиозные учреждения утратили свою политическую и экономическую мощь, а люди были освобождены от влияния духовенства и обращены на путь просвещения, у большевиков не было сомнений, что массы придут к атеизму – особенно если партия будет направлять и ускорять этот процесс.
С точки зрения партийной идеологии народная религиозность была результатом отсталости: образование и просвещение должны были снять завесу суеверия с очей масс и просветить их светом разума. Они верили в преображающую силу пропаганды, образования и просвещения, причисляя их к основным инструментам культурной трансформации. Первая из этих стратегий, антирелигиозная пропаганда, осуществлялась под руководством партийных и комсомольских активистов, которым также помогали члены Союза безбожников (с 1929 г. – Союза воинствующих безбожников). Воинствующие атеисты считали себя бойцами, сражающимися на религиозном фронте, и их первостепенная задача состояла в том, чтобы расшатывать авторитет религии среди населения, подрывая влияние церкви и разоблачая духовенство. На практике это означало изъятие и уничтожение религиозной собственности и зданий, преследование и «разоблачение» духовенства (как двуличных вражеских агентов или аморальных мошенников, наживающихся за счет простого народа) и подрыв веры в сверхъестественное (особенно в его материальные воплощения, такие как мощи и чудотворные иконы)122. Партия верила в силу слова и развернула издание многочисленных печатных органов – журналов «Революция и церковь» (1919) и «Под знаменем марксизма» (1921), газет «Безбожник» (1921) и «Безбожник у станка» (1922), а также многих других, – чтобы изображать религию как отсталую, реакционную силу на службе контрреволюции. Но прежде всего партия опиралась на визуальную пропаганду. В стране, где большинство населения по-прежнему было малограмотным, газеты и памфлеты едва ли могли нести идеи атеизма в достаточно широкие круги, и партийные теоретики быстро поняли, что эффективное распространение коммунистической идеологии зависит от выразительных средств наглядной агитации, использующей знакомые образы123. Антирелигиозные плакаты и карикатуры стали главным орудием в арсенале воинствующего атеизма (см. ил. 1).
Ил. 1. Н. Когоут. Троица единосущная. Плакат. М.: Гублит, Мосполиграф, 1926. Коллекция советской антирелигиозной пропаганды, Библиотеки Сент-Луисского университета, США / Anti-Religious Propaganda Collection, Saint Louis University Libraries Special Collections, St. Louis, MO
Если целью административных репрессий и воинствующей атеистической пропаганды было вытеснить религию из общественной жизни, то цель образования и просвещения состояла в том, чтобы изменить личностное мировоззрение и озарить умы светом научного материализма. В отличие от воинствующей атеистической пропаганды, чьей мишенью были церковь и духовенство, образование и просвещение метили в массы советского населения, считая их жертвами отсталости. Вслед за реформаторами XIX в. большевики полагали, что образование является важнейшим способом превратить людей в сознательных активных деятелей, способных изменить мир124. Луначарский, глава Народного комиссариата просвещения, рассматривал школу как орудие культурной трансформации, которая обращается «к тем свежим сердечкам, к тем светлым, открытым маленьким умам, из которых можно сделать так страшно много и из каждого из которых при правильном педагогическом подходе можно сделать настоящее чудо» – «сделать подлинного человека»125. У учителя, таким образом, была своя священная «миссия» в деле просвещения человека126. Любопытно, что религия была настолько далека от этого видения образования, что Луначарский – как Маркс, Энгельс и Ленин – вначале не видел необходимости вводить в школьную программу специальные антирелигиозные дисциплины; казалось достаточным убрать из школы религиозное обучение и распространять просвещение.
В первые десятилетия советской власти идея превращения школы в храм атеизма не была воплощена в жизнь. Как отмечает историк Ларри Холмс, люди продолжали рассматривать школу как «канал полезной информации», а не как орудие культурной трансформации127. Учитывая скудость ресурсов и массовый абсентеизм, учителя считали приоритетной задачей учить детей чтению, письму и арифметике, а не заниматься антирелигиозной агитацией, видя в ней «непозволительную роскошь»128. Те учителя, которые пытались делать упор на антирелигиозную тематику, не получали поддержки «сверху» и сталкивались с враждебностью «снизу», поскольку многие родители возражали против изъятия религии из школьного образования и иногда угрожали насилием в отношении учителей129. Более того, даже если религия со временем ушла из школы, атеизм так и не пришел ей на смену. Советская школа стала безрелигиозным, но не атеистическим пространством.
За пределами школьного класса массы советского народа должны были перевоспитываться с помощью учреждений культуры; там они могли услышать и усвоить рассказы о научном прогрессе и о науке как неутомимом противнике религии, преграждавшей дорогу освобождению человека130. В рамках этого нарратива религия изображалась как одна из попыток человека преодолеть свое бессилие перед лицом природы, а атеизм фигурировал как неизбежный результат растущего понимания человеком тех грандиозных сил, которые правят вселенной. По мере развития человеческого знания материализм должен был заменить собой религиозные объяснения мира. История прогресса завершалась картиной триумфа человека над природой, включавшего и освобождение человечества от власти засухи и голода, и покорение других планет, и победу над смертью.
Центрами и атеистической пропаганды, и научного просвещения чаще всего служили новые учреждения, такие как избы-читальни, клубы, дома культуры и антирелигиозные музеи. Клубы и дома культуры рассматривались как центры просветительской работы (чтения, политических дискуссионных кружков) и развлечений (танцев, любительских спектаклей, просмотра кинофильмов). Клубы служили теми каналами, через которые партия могла распространять политическое и культурное просвещение; они были предназначены заменить церковь в качестве центра общественной жизни. Действительно, активисты часто пытались превратить местную церковь в сельский клуб, тем самым преображая ее в светское пространство. В более населенных городах партия создавала антирелигиозные музеи131. Как и школы, антирелигиозные музеи находились в юрисдикции Народного комиссариата просвещения; их обычно возглавляли активисты местной партийной ячейки или Союза воинствующих безбожников. Музейная экспозиция состояла из антирелигиозных плакатов и предметов культа из недавно закрытых церквей, мечетей или синагог; считалось наиболее эффективным, когда такие музеи располагались в бывших религиозных учреждениях, переделанных для целей пропаганды атеизма. Действительно, наиболее значимые антирелигиозные музеи были созданы в помещениях самых известных в стране монастырей и церквей: Антирелигиозный музей искусств – в московском Донском монастыре (1927), Центральный антирелигиозный музей – в московском Страстном монастыре (1928), Государственный антирелигиозный музей – в ленинградском Исаакиевском соборе (1931), Музей истории религии – в ленинградском Казанском соборе (1932). Эта музеефикация религии превращала священные предметы и священные места в преподносимые надлежащим образом культурные артефакты. Чтобы подчеркнуть приверженность делу научного просвещения, большевики привлекли значительные ресурсы для создания двух памятников научно-материалистического мировоззрения в центре Москвы. Одним из них был Донской крематорий (1927), построенный на территории Донского монастыря и пропагандировавший приемлемое с точки зрения новой идеологии видение смерти, не оставлявшее места для веры в бессмертие души132. Другим, и гораздо более популярным, был Московский планетарий (1929), где наука представала как триумф разума133.
Московский планетарий, первый в Советском Союзе, был создан как воплощение обещания Народного комиссариата просвещения создать «научно-просветительное учреждение нового типа»134. Спроектированный архитекторами-конструктивистами Михаилом Барщем и Михаилом Синявским в соответствии с самыми прогрессивными принципами архитектуры и градостроительства и оснащенный новейшим немецким оборудованием, планетарий стал средоточием надежд советского просветительского проекта135. Учитывая материальные трудности в СССР 1920‐х гг., сам факт, что большевики выделили ресурсы на строительство планетария, свидетельствует об их вере в преобразующую силу научного просвещения136. Географическое расположение планетария рядом с Московским зоопарком свидетельствует о дидактической миссии, которую он был призван воплотить: за одну экскурсию с помощью просветительских лекций посетитель мог проследить пути эволюции и открыть для себя материальную природу вселенной.
Подчеркивая преобразующую мощь планетария, художник-конструктивист Алексей Ган описывал его как «оптический научный театр», чья функция состоит в том, чтобы «прививать зрителю любовь к науке». В целом Ган считал театр скорее регрессивной, чем прогрессивной силой. Театр, как писал Ган, был просто «зданием, в котором происходит служение культу», местом, где люди удовлетворяют свою первобытную потребность в зрелище – инстинкт, который будет сохраняться, «пока общество не вырастет до степени научного миропонимания и его зрелищные инстинкты не наткнутся на остроту реальных явлений мира и техники». Планетарий, таким образом, удовлетворит зрелищный инстинкт, но переключит его «от служения культу… к служению науке». В этом театре нового типа перед массами раскроется движение вселенной; все будет «механизировано» и у людей появится возможность управлять «сложнейшим в мире по технике аппаратом». Этот опыт поможет зрителю «выковывать в себе научное миропонимание и отделаться от фетишизма дикаря, поповских предрассудков и псевдо-научного миросозерцания цивилизованного европейца»137.
Когда в ноябре 1929 г. Московский планетарий распахнул свои двери, убежденность, что свет науки победит тьму религии, была небывало высока138. Так, Емельян Ярославский наделял планетарий огромным идеологическим потенциалом, утверждая, что «поповские сказки о вселенной распадаются в прах перед доводами науки, подкрепленными такой картиной мира, которую дает планетарий»139. В 1930‐е гг. планетарий провел около 18 000 лекций и принял 8 миллионов экскурсантов. При нем был организован астрономический кружок, «звездный театр», где ставили пьесы о Галилее, Копернике и Джордано Бруно, и Стратосферный комитет, в числе членов которого был инженер-механик и «неутомимый пионер космоса» Фридрих Цандер, а также отец советской космонавтики Сергей Королев140. Главный вопрос, занимавший пропагандистов атеизма, состоял не в том, победит ли научный материализм в битве с религией, а в том, когда и благодаря чему такая победа будет достигнута.
121
Троцкий Л. Д. Не о политике единой жив человек // Троцкий Л. Д. Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи. М.: Госиздат, 1923. С. 7.
122
Greene R. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. P. 122–159; Smith S. A. Bones of Contention: Bolsheviks and the Struggle against Relics, 1918–1930 // Past & Present. 2009. Vol. 204. № 1. P. 155–194.
123
Bonnell V. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley: University of California Press, 1997.
124
Holmes L. E. The Kremlin and the Schoolhouse: Reforming Education in Soviet Russia, 1917–1953. Bloomington: Indiana University Press, 1991. P. 3–4.
125
Луначарский А. В. О воспитании и образовании: Избранные статьи и речи. М., 1981. С. 168–169; цит. по: Holmes L. E. The Kremlin and the Schoolhouse. P. 5, note 12. О деятельности Луначарского см.: Fitzpatrick Sh. The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky (October 1917–1921). Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
126
Holmes L. E. The Kremlin and the Schoolhouse. P. 5, 11–12.
127
Holmes L. E. Fear No Evil: Schools and Religion in Soviet Russia, 1917–1941 // Religious Policy in the Soviet Union / Ed. by S. P. Ramet. New York: Cambridge University Press, 1993. P. 134.
128
Ibid. P. 35.
129
Ibid. P. 131–132.
130
Джеффри Брукс доказывает, что для многих интеллектуалов, работавших в сфере народного просвещения, главным врагом были предрассудки, а не религия, и указывает, что священники и учителя часто объединяли усилия с авторами популярной литературы в деле просвещения населения. Предрассудки «не приравнивались» к религии, а атеизм «не считался необходимым спутником рационалистического мировоззрения». См.: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985. P. 251. Джеймс Эндрюс утверждает, что научная интеллигенция рассматривала искоренение религии не как самоцель, а как средство преодоления ненаучного мышления. – Andrews J. T. Science for the Masses: The Bolshevik State, Public Science, and the Popular Imagination in Soviet Russia, 1917–1934. College Station: Texas A&M University Press, 2003. P. 104–105, 172.
131
Первые антирелигиозные музеи часто были импровизированными, и в зависимости от того, как проводить различие между выставкой и музеем, к 1930‐м гг. в Советском Союзе насчитывалось от тридцати до нескольких сотен антирелигиозных музеев. Также следует заметить, что существовал конфликт между сторонниками сохранения культурных ценностей, которые выступали за превращение церквей в музеи, а предметов культа – в артефакты культуры, и иконоборцами, которые стремились осквернять и разрушать культовые здания и объекты. См.: Paine C. Militant Atheist Objects: Anti-religion Museums in the Soviet Union // Present Pasts. 2009. Vol. 1. P. 61–76; Jolles A. Stalin’s Talking Museums // Oxford Art Journal. 2005. Vol. 28. № 3. P. 429–455. О Государственном музее истории религии в Ленинграде (ГМИР) см.: Polianski I. J. The Antireligious Museum: Soviet Heterotopia between Transcending and Remembering Religious Heritage // Science, Religion and Communism in Cold War Europe / Ed. by P. Betts and S. A. Smith. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. P. 253–273; Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Музей истории религии Академии наук СССР и российское религиоведение. СПб.: Наука, 2014. С. 15. О движении за сохранение культурных ценностей в антирелигиозных музеях см.: Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской власти. М.: Луч, 2001.
132
Кремация в борьбе с религиозными предрассудками // Безбожник. 1928. № 9. С. 10–11.
133
Smolkin-Rothrock V. The Contested Skies: The Battle of Science and Religion in the Soviet Planetarium // Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm in Socialist Societies / Ed. by E. Maurer, J. Richers, M. Rüthers, and C. Scheide. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P. 57–78.
134
Современная архитектура. 1927. № 3. С. 79.
135
Cooke C. Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture, and the City. London: Academy Editions, 1995. P. 133–135.
136
ЦАГМ. Ф. 1782. Оп. 3. Д. 183. Л. 7.
137
Ган А. Новому театру – новое здание // Современная архитектура. 1927. № 3. С. 80–81.
138
В литературе первых советских лет, посвященной вопросам просвещения, подчеркивалась важная роль астрономии в битве между наукой и религией. См. наиболее значительные публикации в этом жанре Григория Гурева и Николая Каменьщикова: Гурев Г. А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем и история взаимоотношений науки и религии. Л.: ГАИЗ, 1933; Гурев Г. А. Наука и религия о вселенной. М.: ОГИА, 1934; Гурев Г. А. Наука о вселенной и религия: космологические очерки. М.: ОГИЗ, 1934; Каменьщиков Н. П. Правда о небе: Антирелигиозные беседы с крестьянами о мироздании. Л.: Прибой, 1931; Каменьщиков Н. П. Что видели на небе попы, а что видим мы. М.: Атеист, 1930; Каменьщиков Н. П. Астрономия безбожника. Л.: Прибой, 1931.
139
ЦАГМ. Ф. 1782. Оп. 3. Д. 183. Л. 7. Воспоминания о Ярославском принадлежат Ивану Шевлякову, который более сорока лет читал лекции в планетарии, став старейшим лектором Московского планетария. См.: Легенды планетария: К 115-летию старейшего лектора планетария И. Ф. Шевлякова. – URL: http://www.planetarium-moscow.ru/about/legends-of-the-planetarium/detail.php?ID=2429.
140
Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономическая Москва в 20‐е годы // Историко-астрономические исследования. Вып. 18. М.: Наука, 1986; Комаров В. Н., Порцевский К. А. Московский планетарий. М.: Московский рабочий, 1979. О Цандере, пропаганде им идеи космических путешествий и его роли в первых научных обществах см.: Siddiqi A. A. Imagining the Cosmos: Utopians, Mystics, and the Popular Culture of Spaceflight in Revolutionary Russia // Osiris. 2008. Vol. 23. № 1. P. 260–288. О философских истоках советской программы освоения космоса см.: Hagemeister M. Konstantin Tsiolkovsky and the Occult Roots of Soviet Space Travel // The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions / Ed. by M. Hagemeister, B. Menzel and B. G. Rosenthal. Munich: Verlag Otto Sagner, 2012. P. 135–150.