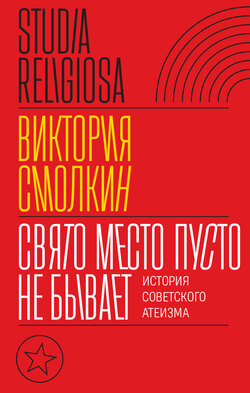Читать книгу Свято место пусто не бывает: история советского атеизма - Виктория Смолкин - Страница 13
Глава 1
Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине
Большевики-сталинцы
ОглавлениеСекулярная структура, введенная сразу же после революции, существенно подорвала юридическую, экономическую и политическую мощь православной церкви. Тем не менее на протяжении 1920‐х гг. церковь оставалась «мощнейшей общественной корпорацией»180. Хотя большевики могли рассматривать Декларацию митрополита Сергия о лояльности советской власти как свою политическую победу, они не питали иллюзий, что народ отказался от веры или от традиций. До начала коллективизации советская власть в первую очередь стремилась подчинить себе церковь как учреждение, а религиозная жизнь на местах могла в большей или меньшей степени идти своим чередом181. В какой-то мере это была осознанно выбранная политическая стратегия, поскольку репрессии зачастую приводили не к подавлению религиозных общин, а к мобилизации религиозной активности182. Историк Гленнис Янг показывает, что в начале советского периода сфера религии все в большей мере политизировалась. Так, Янг прослеживает трансформацию слова «церковник» в советской прессе, замечая, что если в середине 1920‐х журналисты «обычно использовали слово „церковник“ как синоним „духовного лица“», то постепенно этот термин «перестал быть исключительно религиозной категорией»183. Когда религиозные активисты начали влиять на политику в деревне, вступая в местные советы, риторический термин «церковник» стал обозначать «в равной степени политического и религиозного деятеля», чья «идентичность ассоциировалась с озлобленностью в отношении целей и ожиданий советской власти»184. К началу 1930‐х гг. термин «церковник» стал «синонимом фракционного политика на селе»185. Действительно, как показывает Грегори Фриз, зачастую большевики считали религиозных активистов большей угрозой советской власти, чем церковь и духовенство, поскольку таких активистов поддерживали националисты, кулаки и другие антисоветские группы186.
Когда большевики мобилизовались на выполнение первого пятилетнего плана (1928–1932), такие партийные лидеры, как Бухарин, называли религиозный вопрос «фронтом классовой войны», а саму религию – «врагом социалистического строительства», который «борется с нами на культурном фронте»187. Эти перемены антирелигиозной риторики – осуждение религии в целом, а не конкретных религиозных учреждений – были признаком того, что социалистическое строительство вступило в новую фазу.
В годы первой пятилетки партия стремилась мобилизовать все ресурсы на нужды индустриализации, коллективизации и культурной революции. Антирелигиозная кампания была важной частью более широкой кампании – культурной революции, поскольку культурная революция была разновидностью классовой борьбы, а религия была идеологией классового врага. Партия использовала все средства, которые были в ее распоряжении, – атеистическую пропаганду, правовые и административные запреты, внеправовые репрессии, – чтобы религия не смогла оказаться препятствием на пути построения «социализма в одной, отдельно взятой стране».
Прежде чем сделать смену курса достоянием общественности, партия провела подготовительную закулисную работу. 24 января 1929 г. был выпущен секретный циркуляр, озаглавленный «О мерах по усилению антирелигиозной работы», где было заявлено, что «религиозные организации… являются единственной легально действующей контрреволюционной организацией» на территории СССР, что заставляет «решительно бороться» с ними. Резолюция призывала Союз безбожников (который в том же году добавил к своему названию слово «воинствующих») усилить атеистическую пропаганду и стать более влиятельной силой в деревне188. Вскоре после этого, 8 апреля 1929 г., Совет народных комиссаров (Совнарком) и ВЦИК издали постановление «О религиозных объединениях», которое дало официальный старт реализации партийного плана по вытеснению религии из сферы политики и общественной жизни, радикально сузив «зону легальной церковной жизни»189. Целью принятия постановления 1929 г. было поставить все аспекты религиозной жизни под контроль государства путем отмены многочисленных положений, законодательно установленных в 1918 г.: запрещалось религиозное образование детей и благотворительная работа, монастыри подлежали закрытию, а религиозные объединения были обязаны регистрироваться в местных органах власти. Чтобы быть уверенными, что у Союза воинствующих безбожников не будет оппонентов, большевики изъяли право на «религиозную пропаганду» из четвертой статьи Конституции РСФСР, которая до этого гарантировала советским гражданам «свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды»190. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы вытеснить религию на обочину общественной жизни; общественная жизнь теперь должна была стать зримо советской191. В конечном итоге единственным правом в сфере религии, которое оставалось у советских граждан, было право молиться в пределах специально отведенных для этого зданий и помещений.
* * *
Поскольку религия играла центральную роль в жизни русской деревни, а коллективизация была в числе приоритетных задач сталинской программы модернизации, в первый пятилетний план было включено требование решения религиозного вопроса. В июне 1929 г. на Втором съезде Союза воинствующих безбожников ленинградский пропагандист атеизма Иосиф Элиашевич провозгласил «безбожную пятилетку», и перед местными ячейками Союза была поставлена задача «принять меры к массовому выходу трудящихся из религиозных общин»192. Как объявил Ярославский на съезде Союза воинствующих безбожников в 1930 г., «процесс сплошной коллективизации связан с ликвидацией… значительной части церквей»193. На практике процесс коллективизации часто начинался с принудительного закрытия местной церкви, что вызывало народные протесты. Такой сценарий повторялся настолько часто, что 14 марта 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) выпустило постановление, направленное против «искривления партийной линии», в том числе в области «борьбы с религиозными предрассудками». Это постановление, разумеется, не имело ничего общего с борьбой за законность и было вызвано лишь тем фактом, что, начиная кампанию коллективизации с закрытия сельских церквей, тем самым ставили под угрозу эффективное осуществление всей кампании. Указ сигнализировал не об изменении политики, а о необходимости следовать иной стратегии. Церкви по-прежнему продолжали закрывать, церковные здания использовали не по назначению или разрушали, а религиозные объединения распускались194.
Второй пятилетний план (1933–1937) поставил задачу «окончательной ликвидации капиталистических элементов и классов вообще» и построения бесклассового общества, что делало положение религии еще более шатким. С одной стороны, согласно социалистической идеологии, у религии в Советском Союзе не было будущего; вопрос состоял лишь в том, какие политические усилия придется приложить партии, чтобы ускорить кончину религии. С другой стороны, протесты зарубежных стран против антирелигиозных репрессий советской власти расшатывали позиции СССР, надеявшегося на признание на мировой арене. Но к середине 1930‐х гг. – поскольку именно в 1934 г. убийство Сергея Кирова, чья популярность превращала его в потенциального соперника Сталина, привело к эскалации классовой войны и политического террора – в среде большевиков наблюдался крепнущий консенсус в отношении того, что религиозные учреждения в целом и православная церковь в частности по-прежнему представляют политическую угрозу и что поэтому их необходимо окончательно и бесповоротно нейтрализовать195.
В 1937 г., на пике Большого террора, большевистская политическая элита обсуждала идею полного освобождения Советского Союза от религии. Партия обвинила православную церковь в сотрудничестве с религиозным подпольем в стране и агентами контрреволюции за рубежом196; Постановление 1929 г. теперь расценивалось как чересчур либеральное, поскольку оно позволяло дальнейшее существование и даже распространение религии197. Только за 1937 г. большевики закрыли более восьми тысяч церквей (и еще шесть тысяч – в 1938 г.) и арестовали тридцать пять тысяч «служителей религиозных культов»198. Большевики также отправили в лагеря или расстреляли большинство иерархов православной церкви. Историк Михаил Шкаровский пишет, что к 1938 г. православная церковь была «в основном разгромлена»199. Местные органы, в чьи обязанности входило взаимодействие с религиозными объединениями, были ликвидированы за ненадобностью, и «это означало уничтожение самой возможности контакта Церкви и государства»200. К концу 1930‐х гг. единственным государственным учреждением, которое по-прежнему занималось делами религий, был Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).
Но за статистическими данными о закрытии церквей скрывался факт, который, безусловно, был очевиден самим большевикам: что религия по-прежнему была способна поднять народ на сопротивление. Они едва ли питали иллюзии, что религия изгнана из жизни советского общества. Изучавшие жизнь деревни этнографы, такие как Н. М. Маторин (1898–1936) и В. Г. Богораз-Тан (1865–1936), предпринимали исследования «живой религии» и «народного православия», позволяющие судить о сохранении религиозности в сельской местности на протяжении 1920–1930‐х гг.201 Итоги Всесоюзной переписи населения 1937 г. также явно свидетельствовали о том, что религия была реальностью социальной жизни202. Программа переписи, подготовленная при участии советских этнографов и под личным контролем Сталина, включала пункт «Религия», который был добавлен в финальный проект по инициативе Сталина203. В инструкции к переписи уточнялось, что целью этого вопроса было скорее определить убеждения опрашиваемого, чем конфессиональную принадлежность; результаты переписи показали, что из 98 412 тысяч опрошенных в возрасте 16 лет и старше более половины (56,17%) заявили о себе как о верующих, а в сельской местности их удельный вес составил две трети населения. Официальным ответом на это стали обвинения в плохом ведении антирелигиозной работы и аннулирование результатов переписи. Но большевики не могли игнорировать тот факт, что более половины населения страны по-прежнему ощущают приверженность религии и что продолжение антирелигиозной политики приведет к тому, что эти люди перестанут быть опорой советского проекта204. При проведении новой переписи населения в 1939 г. проблему попытались обойти, убрав из программы переписи вопрос о религии; но на самом деле эта перепись еще ярче выявила издержки антирелигиозной политики, когда некоторые респонденты на вопрос «Гражданин какого государства?» ответили: «Христианин» или «Православный»205.
В какой-то мере народное сопротивление участию в советском проекте росло, поскольку партия, провозглашая свои планы по переустройству мира, объявляла коммунистический строй полной противоположностью традиционным порядкам, что у многих людей вызывало неприятие. Слухи о коллективизации, которые цитирует Линн Виола в своей работе о крестьянских восстаниях при Сталине, ярко иллюстрируют крестьянские представления о колхозах и о советской власти как о воплощении зла:
В колхозах будут класть специальные печати, закроют все церкви, не разрешат молиться, умерших людей будут сжигать, воспретят крестить детей, инвалидов и стариков будут убивать, мужей и жен не будет, будут спать под одним стометровым одеялом… Детей от родителей будут отбирать, будет полное кровосмешение: брат будет жить с сестрой, сын – с матерью, отец – с дочерью, и т. д. Колхоз – это скотину в один сарай, людей в один барак…206
Другой показательный пример народного отношения к советскому проекту – слух о том, что советские паспорта, введенные в городах, отмечены печатью Антихриста. В народных представлениях советский строй был перевернутым миром, и жизнь в нем регулировалась перевернутыми моральными нормами.
В канун Второй мировой войны советская власть оказалась в сложной ситуации. Она практически уничтожила церковь как социальный институт – из более чем пятидесяти тысяч православных церквей, существовавших в 1917 г. на территории России, в 1939 г. осталось меньше тысячи207. Но советская власть не сумела ни разорвать узы, связывающие людей с православием, ни создать конкурирующий атеистический нарратив, который сумел бы выйти за пределы общественной жизни и проникнуть в домашний обиход. Даже когда политическая элита вела разговоры о перспективах страны, свободной от религии, она сигнализировала и о другом курсе. В 1936 г. статья 124 новой сталинской Конституции признала право советских граждан «отправлять религиозные культы», что, учитывая опустошительные итоги недавней антирелигиозной кампании, было воспринято некоторыми представителями духовенства и верующими как признак наступления лучших времен208. Сталин также дал сигнал о смене курса советской политической элите. В 1937 г. историк Сергей Бахрушин (1882–1950) опубликовал в журнале «Историк-марксист» статью, озаглавленную «К вопросу о крещении Киевской Руси», где доказывал, что принятие христианства великим князем Владимиром было скорее не средством порабощения трудящихся масс, а зрело обдуманным политическим шагом, позволившим усилить и укрепить государство209. В своей статье Бахрушин подверг критике существовавшие на тот момент нарративы о крещении Руси в 988 г.; до сих пор, как он доказывал, на первый план неправомерно выдвигались психологические аспекты обращения Владимира или же заслуги в деле крещения приписывались усилиям зарубежных миссионеров. Со своей стороны Бахрушин представлял принятие христианства как осознанное политическое решение, принятое правящей верхушкой Руси, которое должно рассматриваться как часть истории формирования Российского государства. Хотя статья Бахрушина была написана в узких рамках академической истории, она была признаком идеологического отступления, поскольку религия в ней представала как прогрессивный исторический фактор, способствовавший укреплению государства. Бахрушинская статья вышла в свет сразу после завершения работы правительственной комиссии, в задачу которой входило выработать каноны написания учебников по истории для высшей школы; комиссия приняла решение вернуть религию в исторический нарратив, сформулировав тезис, что «введение христианства было прогрессом по сравнению с языческим варварством»210. Этот пересмотр исторической роли христианства свидетельствовал о более глубоких переменах в идеологической практике советской власти211.
В течение 1930‐х гг. в определении целей религиозной политики сталинизма задачи управления стали соперничать с идеологическими задачами. Чтобы консолидировать общество и воспитывать советский патриотизм в условиях назревающей войны с империализмом, которую Сталин считал неизбежной, партия отступила от идеологического иконоборчества периода культурной революции и вернулась к традиционным ценностям и популистским стереотипам212. В какой-то мере этот поворот стал возможен потому, что институциональная мощь православной церкви была сломлена и религия больше не представляла серьезной политической угрозы. Но, кроме того, поворот стал необходимым, поскольку антирелигиозная кампания явным образом не достигала своей цели: утверждения атеистического мировоззрения. Комиссия по делам культов, которая была сформирована в апреле 1929 г. для проведения в жизнь нового законодательства о религии, занималась не только вопросами налогообложения и закрытия церквей, конфискацией религиозной собственности и репрессиями в отношении духовенства, но также пыталась устранить проблемы, возникшие в результате проведения этой политики213.
В то же время антирелигиозный аппарат был бюрократической химерой – «потемкинской деревней атеизма», по выражению историка Дэниэла Периса, – и реальное влияние этого аппарата не простиралось дальше лозунгов214. Союз воинствующих безбожников числил в своих рядах около пяти миллионов членов (больше, чем состояло в самой Всесоюзной коммунистической партии), но его громкие пропагандистские кампании и раздутые статистические данные о членстве лишь маскировали неэффективность его работы и слабость представительства «на местах»215. Возможно, самым важным было то, что по своему содержанию пропаганда Союза безбожников была не столько атеистической, сколько антирелигиозной и даже антиклерикальной. Как отмечает Перис, «следует проводить различие между эффективной и жестокой политикой режима по подавлению внешних проявлений религиозной жизни и деятельностью Союза безбожников как агента атеистического мировоззрения»216. В целом большевики тратили гораздо больше энергии на дебаты о том, как искоренить религию, чем на создание позитивной атеистической программы217.
В конце 1930‐х гг. партия приблизилась к реализации цели, провозглашенной в антирелигиозной пропаганде: «преодолению религии». И хотя формирование атеистического мировоззрения не было достигнуто, антирелигиозный проект способствовал нейтрализации церкви как политического института и, по словам Шкаровского, позволил «создать видимость безбожного государства»218. Но это была иллюзия, которую, как вскоре поняли сами большевики, было слишком дорого поддерживать.
180
Беглов А. Л. В поисках «безгрешных катакомб». С. 32.
181
Wanner C. Introduction // State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. New York: Oxford University Press, 2012. P. 12.
182
Получив право голоса, крестьяне часто избирали религиозных активистов в сельские советы, чем подрывали и без того слабое влияние большевиков в деревне. См.: Young G. Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists in the Village. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997. P. 255–270.
183
Young G. Power and the Sacred in Revolutionary Russia. P. 255.
184
Ibid. P. 255–256.
185
Ibid. P. 270.
186
Freeze G. L. Subversive Atheism: Soviet Antireligious Campaigns and the Religious Revival in Ukraine in the 1920s // State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. P. 27–62.
187
Бухарин Н. И. Избранные сочинения. М., 1927. С. 24; Рыков А. И. Религия – враг социалистического строительства. Она борется с нами на культурной почве // Стенограмма X съезда Советов. М., 1928. С. 191. См. также: Бухарин Н. И. Реконструктивный период и борьба с религией. Речь на II Всесоюзном съезде безбожников // Революция и культура. 1929. № 12. С. 4.
188
Peris D. Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998. P. 127.
189
Беглов А. Л. В поисках «безгрешных катакомб». С. 35. См. также: Freeze G. L. The Stalinist Assault on the Parish, 1929–1941 // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg: Neue Wege der Forschung / Ed. by M. Hildermeier. Munich: Oldenburg Verlag, 1998. P. 209–232.
190
В конце 1928 г. НКВД получил инструкции о «войне» с религией, и число закрытых церквей резко возросло. Если в 1927 г. было закрыто 134 церкви, то к 1929 г. государство закрыло около 1000 церквей. – Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече; Лепта, 2010. С. 119.
191
О культуре сталинской эпохи см.: Hoffman D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003; Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington: Indiana University Press, 2000; Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000; Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002 [см. в русском переводе: Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм: советская масссовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). М.: Политическая энциклопедия, 2017].
192
Элиашевич И. Чего мы ждем от II Съезда // Антирелигиозник. 1929. № 6. С. 59–62.
193
Peris D. The 1929 Congress of the Godless // Europe-Asia Studies. 1991. Vol. 43. № 4. P. 711–732.
194
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 120–121.
195
Там же. С. 123–126.
196
Беглов А. Л. В поисках «безгрешных катакомб». С. 35–36.
197
Одинцов М. И., Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР и Московская патриархия: эпоха взаимодействия и противостояния, 1943–1965. СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2013. С. 23.
198
Как пишет историк Хироаки Куромия, в 1937–1938 гг. Сталин «почти полностью уничтожил духовенство». См.: Kuromiya H. Why the Destruction of Orthodox Priests in 1937–1938 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2007. Vol. 55. P. 87.
199
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 126.
200
Там же. С. 127.
201
См.: Маторин Н. М., Невский А. Программа для изучения бытового православия. Л., 1930; цит. по: Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Н. М. Маторин и его программа изучения народной религиозности // Религиоведение. 2012. № 4. С. 191–193.
202
О Всесоюзной переписи населения 1937 г. см.: Hirsh F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005. P. 276–292.
203
Corley F. Believers’ Responses to the 1937 and 1939 Soviet Censuses // Religion, State, and Society. 1994. Vol. 22. № 4. P. 403.
204
Сам факт, что результаты переписи не были обнародованы вплоть до 1990 г. и что большинство тех, кто проводил перепись, были репрессированы в годы Большого террора, подчеркивает значимость этих статистических данных для советского руководства. См.: Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года. М.: Наука, 1996; Волков А. Г. Из истории переписи населения 1937 года // Вестник статистики. 1990. № 8. С. 45–56.
205
Corley F. Believers’ Responses to the 1937 and 1939 Soviet Censuses. P. 412.
206
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7486. Оп. 37. Д. 61. Л. 45; цит. по: Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York: Oxford University Press, 1999. P. 59 [см. в русском переводе: Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 77. – Примеч. пер.].
207
Одинцов М. И. Вероисповедная политика советского государства в 1939–1958 гг. // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы, 1939–1958 (дискуссионные аспекты). М.: Институт славяноведения РАН, 2003. С. 7–10; Miner S. M. Stalin’s Holy War: Religion, Nationalism, and Alliance Politics, 1941–1945. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003. P. 22.
208
Беглов А. Л. В поисках «безгрешных катакомб». С. 34.
209
Бахрушин С. В. К вопросу о крещении Руси // Историк-марксист. 1937. № 2. С. 40–77. О статье Бахрушина и ее фундаментальном значении для формирования советского нарратива о князе Владимире см.: Franklin S. 988–1988: Uses and Abuses of the Millennium // World Today. 1988. Vol. 44. № 4. P. 66.
210
Ostrowski D. The Christianization of Rus’ in Soviet Historiography: Attitudes and Interpretations (1920–1960) // Harvard Ukrainian Studies. 1987. Vol. 11. № 3–4. P. 446–447.
211
См.: Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002 [см. в русском переводе: Бранденбергер Д. Л. Кризис сталинского агитпропа. Пропаганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927–1941 / Авториз. пер. с англ. А. А. Пешкова, Е. С. Володиной. М.: РОССПЭН, 2017]. В своем исследовании сталинской идеологической системы Бранденбергер доказывает, что ключевой причиной кризиса большевистской пропаганды при Сталине была ее неспособность создать убедительную версию официальной истории.
212
Сущность русского национального возрождения при Сталине является дискуссионной. В классической работе Николая Тимашева отказ от утопизма в пользу более традиционных ценностей в середине 1930‐х гг. описывается как «великое отступление», тогда как Дэвид Бранденбергер называет это явление «национал-большевизмом» и трактует его скорее как политическую стратегию, чем как возвращение к старому порядку вещей. См.: Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York: E. P. Dutton, 1946; Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм. С. 7–8.
213
Luukkanen A. The Religious Policy of the Stalinist State. A Case Study: The Central Standing Commission on Religious Questions, 1929–1938. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1997.
214
Peris D. Storming the Heavens. P. 8–9.
215
Ibid. P. 118–120.
216
Ibid. P. 119.
217
Ibid. P. 108.
218
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 128.