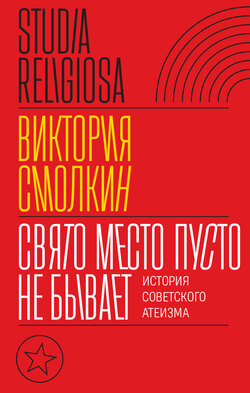Читать книгу Свято место пусто не бывает: история советского атеизма - Виктория Смолкин - Страница 4
Введение
Коммунизм и религия
ОглавлениеИдеологии принято сравнивать с религией, и в этом отношении советская коммунистическая идеология, хотя и своеобразна, не уникальна. Уже после Французской революции французский историк Алексис де Токвиль заметил, что, несмотря на свою антирелигиозную риторику, революционная идеология усвоила все «особые и характерные черты» религии – настолько, что «скорее сама стала своего рода новой религией, правда религией несовершенной, без Бога, без культа и без иной жизни»23. Как и Токвиль, многие из тех, кто сравнивал идеологии с религиями, использовали эту аналогию для осуждения революционных проектов как радикальных и иррациональных24. В межвоенной Европе интеллектуалы, находившиеся в оппозиции коммунизму, фашизму и нацизму, изобрели понятие «политической религии», чтобы подчеркнуть, что эти новые идеологии воплощают качественно иную разновидность политики: политику, которая претендует на тело и дух человека25.
Советский коммунизм был в центре этой «религиозной» концепции идеологии26. Религиозный – или, говоря более точно, антирелигиозный – аспект советского коммунизма воспринимался как одна из его важнейших черт. Действительно, начиная с осуждения Ватиканом «атеистического коммунизма» в 1937 г. и вплоть до холодной войны с ее походами против «безбожного коммунизма» атеизм зачастую воспринимался не просто как компонент коммунистической идеологии, но как сама ее сущность27. Может показаться удивительным, что – учитывая распространенность сравнения коммунистической идеологии с религией и центральную роль советского примера в этом нарративе – до сих пор появилось относительно немного исследований, где объясняется, почему позиция Советского Союза по отношению к религии и атеизму менялась с ходом времени28.
То, как ученые интерпретировали историю религии и атеизма в Советском Союзе, тоже имеет свою историю – и она отражает как исторический, так и академический контекст появления научных исследований. Со времени окончания Второй мировой войны, когда советология (Soviet studies) начала оформляться как сфера исследований, ученые предложили три нарратива о месте религии и атеизма в советской коммунистической идеологии. Приверженцы первого нарратива, доминировавшего в годы холодной войны, уделяли особое внимание антирелигиозной репрессивной политике; создатели второго нарратива, преобладавшего в первые годы после распада СССР, исследовали роль атеизма в более обширном проекте утопического переустройства общества и культурной революции; наконец, приверженцы третьего нарратива воспринимали советскую религиозную политику как одну из форм современного секулярного общества. В рамках этих трех нарративов советская коммунистическая идеология трактовалась как тоталитарная «политическая религия», рухнувшая утопия, или же как вариант секуляризма: в этом смысле они посвящены гораздо большему, чем религия и атеизм; в центре этих нарративов вопрос о сущности советской коммунистической идеологии.
Первый из этих нарративов, созданный в первые годы после Октябрьской революции в основном зарубежными наблюдателями, посещавшими Советский Союз, и русскими эмигрантами, задал параметры, в соответствии с которыми впоследствии, особенно в годы холодной войны, характеризовалась советская коммунистическая идеология29. Еще до Октябрьской революции русская религиозная интеллигенция открыто порицала милленаризм русских революционеров и обличала социализм как ложную веру30. После 1917 г. русские эмигранты – здесь, пожалуй, стоит выделить религиозных философов Николая Бердяева (1874–1948), Сергея Булгакова (1871–1944) и Николая Трубецкого (1890–1938) – продолжали рассматривать коммунистическую идеологию в религиозных терминах31. В своем влиятельном труде «Истоки и смысл русского коммунизма», впервые опубликованном в 1937 г., Бердяев писал, что «воинствующий атеизм» коммунизма и его «непримиримо враждебное отношение» к религии были не «явлением случайным», но «самой сущностью коммунистического миросозерцания». Тот факт, что коммунистическая идеология претендует дать «ответы на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни», делает коммунизм чем-то большим, чем «социальная система» или «научная, чисто интеллектуальная теория». Претендуя на то, чтобы охватить всю полноту человеческого опыта, коммунизм впадает в «нетерпимость, фанатизм» и становится таким же «эксклюзивным», как любая религиозная вера32.
Писатель Рене Фюлёп-Миллер, размышляя о своей поездке в СССР в начале 1920‐х гг., заметил, что хотя «большевизм до сих пор почти всегда рассматривался как чисто политическая проблема», эта проблема простирается «далеко за пределы узкого горизонта политических симпатий и антипатий». Он заметил, что большевистская «доктрина предлагает не смутную надежду на будущее утешение в ином, лучшем мире, а рецепты немедленного и конкретного воплощения этого лучшего мира». По мнению Фюлёп-Миллера, радикальная нетерпимость партии к иным верам – в том числе и, возможно, особенно к религии – носила «специфически сектантский характер». «Яростная враждебность» большевизма к другим верованиям была «одним из важнейших доказательств, что сам большевизм может рассматриваться как разновидность религии, а не как отрасль науки». Действительно, продолжал Фюлёп-Миллер, именно благодаря большевистской «войне против религии» «можно с наибольшей ясностью увидеть религиозный характер большевизма». Это делает большевиков не политической партией, а скорее милленаристской сектой33. Нарративы, порожденные ранней идейной борьбой с большевизмом, отбрасывают длинную тень. Они определяли образ советского коммунизма на протяжении почти всего двадцатого столетия34.
Многие авторы первых академических исследований о положении религии в СССР фокусировали внимание на преследованиях религиозных институтов и верующих – и у них были на то основания35. Советская система подавляла религиозную жизнь в СССР. Большевики разрушали религиозные учреждения, национализировали религиозную собственность, заключали в тюрьмы и убивали священников и верующих, искореняли религиозные общины и загоняли религиозную жизнь во все более узкие рамки частной сферы. Однако, сосредоточив внимание на религиозных гонениях, авторы уделяли меньшее внимание тому, как определялся сам атеизм в качестве политического, идеологического и духовного проекта. Исследования антирелигиозных репрессий способны многое поведать нам о разрушительном влиянии религиозной политики советского государства, но гораздо меньше о ее продуктивной стороне – о том, как советский проект пытался решать те задачи и вопросы, которые он унаследовал от религии, и о том, как оценивались успехи и поражения антирелигиозных и атеистических стратегий по созданию альтернативной космологии и образа жизни.
Вторая волна литературы, в основном появившаяся в конце советского периода и после него, когда советские архивы были наконец открыты для исследователей, переключила внимание на атеизм36. Под влиянием «культурного поворота» в гуманитарных и общественных науках авторы таких исследований рассматривали атеизм в более широком контексте большевистского утопизма. Основным предметом дискуссий стал вопрос о том, в какой степени партия и ее идеология проникали в душу советского человека37. Чтобы понять это, авторы исследований, посвященных религии и атеизму, изучали организации и кадры, чьей задачей было развитие и распространение идеологии – Коммунистическую партию, комсомол, Союз воинствующих безбожников, – а также то, как они понимали и воспитывали атеизм. Исследователям удалось показать, что, несмотря на организационную мобилизацию и пропаганду атеистического проекта в 1920–1930‐е гг., воинствующий атеизм оказал лишь малое влияние на то, как мыслили и жили обычные люди. Значимость этих исследований в том, что они позволяют выявить и логику, и ограниченность атеистического проекта на его ранних стадиях. При этом их авторы обращали особое внимание лишь на ранний советский период, а послевоенный и в особенности постсталинский период – когда советский атеизм превратился в теоретическую дисциплину и внедрялся на массовом уровне38 – остается в основном неизученным. Некоторые недавние исследования внесли ценный вклад в реконструкцию специфического духовного ландшафта позднего советского периода39, но авторы большинства работ, чьи хронологические рамки простираются в послевоенный период, концентрируют свое внимание не столько на идеологических трансформациях советского проекта, сколько на том, как этот проект влиял на конкретные религиозные сообщества40.
Для третьей волны изучения религии и атеизма в СССР характерно смещение внимания с антирелигиозных репрессий и атеистической пропаганды на рассмотрение советской коммунистической идеологии сквозь призму секуляризма41. В этих исследованиях проводится важное разграничение между секуляризацией как социальным процессом и секуляризмом как политическим проектом42. Далее, авторы этих исследований рассматривают советский проект не изолированно, но в компаративной перспективе, сопоставляя с различными моделями секулярности, от французской laïcité до секуляризма в Турции и Индии. Эти исследования, основанные на теоретических постулатах антропологии, социологии и религиоведения, характеризуют секуляризм как дисциплинарный проект, целью которого является эффективное управление и воспитание рационально мыслящих и действующих граждан-подданных43. Их авторы утверждают, что, хотя современное секулярное государство преподносит секуляризм как нейтральный по отношению к религии, на самом деле «секулярное» (the secular) является продуктивной категорией, укорененной в христианской традиции и в европейской истории. Секуляризм, взятый на вооружение современным государством, определяет и регулирует религиозную жизнь, проводя четкие границы между личными страстями и общественным порядком. Для основоположников этого понятия секуляризма, таких как Талал Асад, религия становится чем-то «укорененным в личном опыте, выразимым как убеждение, зависящим от частных институций, практикуемым в свободное время [и] несущественным для нашей общей политики, экономики, науки и морали»44.
Подхватывая темы, поднятые в литературе по секуляризму, исследователи советского феномена рассматривают его как вариант современного секулярного общества45. Даже отмечая советскую специфику, они указывают на общие основания либерального и коммунистического политических проектов в их отношении к религии: с точки зрения того и другого религия является отсталой и иррациональной и тем самым представляет угрозу политической и социальной стабильности – особенно когда она выходит за пределы частной сферы, где, с точки зрения секуляризма, она только и может царить полновластно46. В действительности либеральные предпосылки секуляризма являются тем фоном, на котором прежде анализировались идеологии, нетерпимые к другим ценностям, такие как коммунизм, – что заставляет нас вернуться к концепции политической религии. То, что делало коммунистический проект особенным для таких авторов, как Фюлёп-Миллер и Бердяев, то есть то, что превращало коммунизм в «религию», было именно насильственное нарушение границ, установленных современным либеральным государством, в котором (иррациональные) религиозные страсти должны были быть исключены из (рациональной) политики, и, следовательно, из общественной жизни.
Наконец, советский атеизм оставался маргинальной темой и в быстроразвивающихся исследованиях, посвященных периоду позднего социализма. В этих работах обычно отмечается постепенная потеря социалистическим обществом веры в коммунистический проект и в то же время вносятся дополнения и усложнения в картину позднего социализма как эпохи застоя47. Напротив, подчеркивается креативность и динамичность культурного развития эпохи позднего социализма, анализируется та сложная субъективность, которая формировалась в позднесоветскую эпоху. Но в той мере, в которой авторов этих трудов интересует советская идеология, их внимание фокусируется в основном на проблемах дискурса и потребления идеологии, а не на идеологической продукции48. Исследователи раннего советского периода сравнительно недавно сместили свое внимание с идеологического дискурса на историю институтов и механизмов идеологического производства сталинской эпохи49, но изучение идеологической продукции позднего советского периода еще только начинается50.
Центральным для исследований по советской идеологии является вопрос о том, была ли идеология значима для советского политического проекта и для опыта советских людей. Из той картины, которая вырисовывается в исследованиях по позднему советскому периоду, следует, что в тот период идеология, как правило, не имела особого значения. Бесспорно, что в брежневские времена официальная идеология выглядела окостенелой и что научный атеизм, возможно, был самой застойной из ее догм. Однако если исследовать те дебаты, которые велись внутри идеологического аппарата – как правило, за закрытыми дверями, – мы получим иную картину. Выявляя внутреннюю архитектуру и логику идеологической продукции, можно увидеть, что идеология в целом и атеизм в частности имели значение для жизни советского общества – даже в конце советского периода, когда большинство советских людей уже не воспринимали их серьезно. Напротив, идеология и атеизм приобретали тогда особое значение именно потому, что большинство советских людей были индифферентными к советскому атеизму, научно-материалистическому мировоззрению и советской коммунистической идеологии, тем самым поставив партию перед серьезной политической дилеммой.
Возвращаясь к истории советского атеизма, можно заключить, что три нарратива об отношениях между идеологией, религией и атеизмом в СССР – что советский проект был политической религией, или неудавшейся утопией, или же специфическим вариантом современного секуляризма – не дают полной картины, если рассматривать каждый из них в отдельности; если же объединить эти нарративы, они свидетельствуют о трансформации подходов к религии и атеизму в СССР, но не объясняют ее.
Без сомнения, они высвечивают существенные черты советского проекта: что советский проект был репрессивным от начала до конца, хотя объекты репрессий менялись; что советская утопия, в том числе и ее атеистический компонент, безусловно провалилась; и, наконец, что советский проект породил разнообразные светские учреждения и светских субъектов, что позволяет сравнивать советское государство с другими современными государствами. Но восприятие этих нарративов в изоляции, а не как переплетенных вместе затемняет те сложности и противоречия, которые существенны для понимания советского взаимодействия с религией и атеизмом. Без этого мы не можем понять, почему эта политика изменялась с ходом времени. Выясняя, как советское государство понимало «религию» и «атеизм» и применяло эти категории в различных контекстах для реализации различных политических, социальных или культурных задач, эта книга вскрывает те противоречия, которые определяли основу советской коммунистической идеологии и в конце концов подточили ее изнутри.
23
Tocqueville A. de. The Old Regime and the French Revolution. New York: Anchor Books, 1983. P. 13 [см. в русском переводе: Токвиль А. Старый порядок и революция / Пер. с фр. Л. Н. Ефимова. СПб.: Алетейя, 2008. С. 22–23. – Примеч. пер.]. Существует солидный массив литературы о религии и Французской революции, но на российском материале аналогичная тема до сих пор в такой же степени не изучена. См.: Desan S. Reclaiming the Sacred: Lay Religion and Popular Politics in Revolutionary France. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990; Ozouf M. Festivals and the French Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991; Van Kley D. K. The Religious Origins of the French Revolution: From Calvin to the Civil Constitution, 1560–1791. New Haven, CT: Yale University Press, 1999; Redefining the Sacred: Religion in the French and Russian Revolutions / Ed. by D. Schonpflug, M. Schulze Wessel. Frankfurt am Main: Lang, 2012.
24
Koestler A. The God That Failed. New York: Harper, 1950; Voegelin E. Political Religion [1938; repr.:] Lewiston, NY: Edwin Mellen, 1986; Gurian W. Bolshevism: An Introduction to Soviet Communism. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1952.
25
Burrin Ph. Political Religion: The Relevance of a Concept // History and Memory. 1997. Vol. 9. № 1–2. P. 321–349; Gentile E. Political Religion: A Concept and Its Critics – A Critical Survey // Totalitarian Movements and Political Religions. 2005. Vol. 6. № 1. P. 19–32.
26
О большевистском милленаризме см.: Slezkine Yu. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017. См. в русском переводе: Слезкин Ю. Л. Дом правительства: сага о русской революции. М.: Издательство АСТ: Corpus, 2019.
27
Энциклика папы Пия XI «Divini Redemptoris (О безбожном коммунизме)», 19 марта 1937 г. Все цитаты взяты из официального перевода энциклики на английский: http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19031937_divini-redemptoris_en.html. О значении советского атеизма для антикоммунизма в межвоенный период см.: Weir T. H. The Christian Front against Godlessness: Anti-secularism and the Demise of the Weimar Republic, 1928–1933 // Past & Present. 2015. Vol. 229. № 1. P. 201–238; Chamedes G. The Vatican, Nazi-Fascism, and the Making of Transnational Anti-communism in the 1930s // Journal of Contemporary History. 2016. Vol. 51. № 2. P. 261–290. О религиозной мобилизации против коммунизма в годы холодной войны см.: Herzog J. P. The Spiritual-Industrial Complex: America’s Religious Battle against Communism in the Early Cold War. Oxford: Oxford University Press, 2011.
28
О взаимоотношениях науки и идеологии в сталинский период см.: Pollock E. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. Даже в ходе дискуссий о сущности «политической религии» и «тоталитаризма» тем не менее очень редко комплексно рассматриваются взаимоотношения между наукой, религией и атеизмом в рамках советской коммунистической идеологии. О науке, религии и идеологии см.: David-Fox M. Religion, Science, and Political Religion in the Soviet Context // Modern Intellectual History. 2011. Vol. 8. № 2. P. 471–484. См. также новое исследование, где изучаются эти взаимоотношения: Science, Religion and Communism in Cold War Europe / Ed. by P. Betts, S. A. Smith. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
29
Luehrmann S. Was Soviet Society Secular? Undoing Equations between Communism and Religion // Atheist Secularism and Its Discontents / Ed. by T. T. T. Ngo and J. B. Quijada. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. P. 140.
30
См. статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, М. О. Гершензона и А. С. Изгоева в сборнике «Вехи»: Vekhi (Landmarks). New York: M. E. Sharpe, 1994. [См. на русском языке: Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка. Репринтное издание 1909 г. М.: Изд-во «Новости» (АПН), 1990. – Примеч. пер.]
31
Из глубины: Сборник статей о русской революции [1918]. М.: Новости, 1991.
32
Berdyaev N. The Origin of Russian Communism [1937; repr.]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960. P. 158. [См. на русском языке: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. М.: Наука, 1990. С. 129. – Примеч. пер.] См. также: Berdiaev N. The Russian Revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961.
33
Fülöp-Miller R. The Mind and Face of Bolshevism: An Examination of Cultural Life in Soviet Russia. New York: Harper & Row, 1965. P. ix, 71–72.
34
О философах русского зарубежья и об антикоммунизме в годы холодной войны см.: Stroop Ch. The Russian Origins of the So-Called Post-secular Moment: Some Preliminary Observations // State, Religion and Church. 2014. Vol. 1. № 1. P. 59–82.
35
Примеры исследований, где акцент делается на антирелигиозных репрессиях: Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe / Ed. by B. Bociurkiw and J. Strong. Toronto: University of Toronto Press, 1975; Bourdeaux M. Opium of the People: The Christian Religion in the USSR. London: Faber and Faber, 1965; Bourdeaux M. Patriarch and Prophets: Persecution of the Russian Orthodox Church Today. London: Mowbrays, 1975; Bourdeaux M., Rowe M. International Committee for the Defense of Human Rights in the USSR. May One Believe – in Russia? Violations of Religious Liberty in the Soviet Union. London: Darton, Longman & Todd, 1980; Kolarz W. Religion in the Soviet Union. London: Macmillan, 1969; Pospielovskii D. V. A History of Marxist-Leninist Atheism and Soviet Antireligious Policies. New York: St. Martin’s, 1997; Froese P. The Plot to Kill God: Findings from the Soviet Experiment in Secularization. Berkeley: University of California Press, 2008. Соня Люрман предлагает анализ того, каким образом первые исследования положения религии в Советском Союзе стали частью практик холодной войны. См.: Luehrmann S. Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and Historical Knowledge. New York: Oxford University Press, 2015; в особенности см. главу 4 «Counter-Archives: Sympathy on Record».
36
Примеры исследований, где атеизм рассматривается прежде всего в идеологическом контексте: Powell D. E. Antireligious Propaganda in the Soviet Union: A Study in Mass Persuasion. Cambridge, MA: MIT Press, 1975; Thrower J. Marxist-Leninist «Scientific Atheism» and the Study of Religion and Atheism in the USSR. New York: Mouton, 1983; Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989; Young G. Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists in the Village. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997; Peris D. Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998; Husband W. B. «Godless Communists»: Atheism and Society in Soviet Russia, 1917–1932. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000; Алексеев В. А. «Штурм небес» отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией в СССР. М.: Изд. центр «Россия молодая», 1992. Арто Луукканен изучал и идеологию, и управление, но в разных работах. См.: Luukkanen A. The Religious Policy of the Stalinist State. A Case Study: The Central Standing Commission on Religious Questions, 1929–1938. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1997; Luukkanen A. The Party of Unbelief: The Religious Policy of the Bolshevik Party, 1917–1929. Helsinki: Societas Historiae Finlandiae, 1994.
37
Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995 [см. в русском переводе: Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. С. 250–328. – Примеч. пер.]; Halfin I. Stalinist Confessions: Messianism and Terror at the Leningrad Communist University. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009; Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000; Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006 [см. в русском переводе: Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2017. – Примеч. ред.].
38
См.: Смирнов М. Ю. Научный атеизм в советском высшем образовании: периодизация и содержание // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2018. Философские науки. № 3. С. 144–171.
39
Примеры работ, охватывающих послевоенный период: Anderson J. Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor States. Cambridge: Cambridge University Press, 1994; Luehrmann S. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a Volga Republic. Bloomington: Indiana University Press, 2011; Luehrmann S. Religion in Secular Archives; State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine / Ed. by C. Wanner. New York: Oxford University Press, 2012; Huhn U. Glaube und Eigensinn: Volksfrömmigkeit zwischen orthodoxer Kirche und Sowjetischem Staat, 1941 bis 1960. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014; Baran E. B. Dissent on the Margins: How Soviet Jehovah’s Witnesses Defied Communism and Lived to Preach about It. Oxford: Oxford University Press, 2014; Kelly C. Socialist Churches: Radical Secularization and the Preservation of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918–1988. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2016. Примечательно, что, в отличие от англоязычной научной традиции, российские ученые, изучающие судьбу религии в СССР, подчеркивают институциональные различия между правительственной и партийной политикой по отношению к религии. См.: Chumachenko T. Church and State in Soviet Russia: Russian Orthodoxy from World War II to the Khrushchev Years / Transl. and ed. by E. E. Roslof. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2002 [см. также: Чумаченко Т. А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. М.: АИРО-ХХ, 1999. С. 11. – Примеч. пер.]; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, Лепта, 2010; Одинцов М. И., Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР и Московская патриархия: эпоха взаимодействия и противостояния 1943–1965 гг. СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2013.
40
О православии в СССР см.: Roslof E. E. Red Priests: Renovationism, Russian Orthodoxy, and Revolution, 1905–1946. Bloomington: Indiana University Press, 2002; Davis N. A Long Walk to Church: A Contemporary History of Russian Orthodoxy. Boulder, CO: Westview, 2003; Kenworthy S. M. The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism, and Society after 1825. Oxford: Oxford University Press, 2010; Фирсов С. Л. Власть и огонь. Церковь и советское государство: 1918 – начало 1940‐х гг. М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2014. О баптизме и протестантизме см.: Wanner C. Communities of the Converted: Ukrainians and Global Evangelism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007; Coleman H. J. Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929. Bloomington: Indiana University Press, 2005; Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009; Kashirin A. Protestant Minorities in the Soviet Ukraine, 1945–1991. Ph. D. diss. University of Oregon, 2010. Об исламе см.: R’oi Ya. Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. London: Hurst, 2000; Tasar E. Murat. Soviet and Muslim: The Institutionalization of Islam in Central Asia, 1943–1991. Ph. D. diss. Harvard University, 2010; Keller Sh. To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign against Islam in Central Asia, 1917–1941. Westport, CT: Praeger, 2001; Khalid A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 2007 [см. в русском переводе: Халид А. Ислам после коммунизма. Религия и политика в Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Примеч. ред.].; Kemper M. Studying Islam in the Soviet Union. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2009; Yemelianova G. Russia and Islam: A Historical Survey. Basingstoke: Palgrave, 2002. Об иудаизме см.: Gitelman Z. Y. Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU, 1917–1930. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972. P. 298–318; Kornblatt J. D. Doubly Chosen: Jewish Identity, the Soviet Intelligentsia, and the Russian Orthodox Church. Madison: University of Wisconsin Press, 2004; Shternshis A. Soviet and Kosher: Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923–1939. Bloomington: Indiana University Press, 2006. P. 1–43; Altshuler M. Religion and Jewish Identity in the Soviet Union, 1941–1964. Waltham, MA: Brandeis University Press, 2012. P. 1–22, 90–116, 205–314; Bemporad E. Becoming Soviet Jews: The Bolshevik Experiment in Minsk. Bloomington: Indiana University Press, 2013. P. 112–144; Petrovsky-Shtern Yo. Lenin’s Jewish Question. New Haven, CT: Yale University Press, 2010.
41
О секулярной модели управления см.: State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. P. 1–26; Luehrmann S. Secularism Soviet Style; Atheist Secularism and Its Discontents; Burchardt M., Wohlrab-Sahr M., Middell M. Multiple Secularities beyond the West: An Introduction // Multiple Secularities beyond the West: Religion and Modernity in the Global Age / Ed. by M. Burchardt, M. Wohlrab-Sahr, M. Middell. Berlin: De Gruyter, 2015. P. 1–15.
42
О дискуссиях вокруг политики секуляризма см.: Zuckerman Ph., Shook J. R. Introduction: The Study of Secularism // The Oxford Handbook of Secularism / Ed. by Ph. Zuckerman, J. R. Shook. New York: Oxford University Press, 2017. P. 1–17.
43
Asad T. Genealogies of Religion; Sullivan W. F. The Impossibility of Religious Freedom. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005; Warner M., Van Antwerpen J., Calhoun C. J. Varieties of Secularism in a Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010; Mahmood S. Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015; Hurd E. Sh. The Politics of Secularism in International Relations. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007; Taylor Ch. A Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007 [см. в русском переводе: Тейлор Ч. Секулярный век. М.: ББИ, 2017. – Примеч. ред.]; Cady L. E., Hurd E. Sh. Comparative Secularisms and the Politics of Modernity: An Introduction // Comparative Secularisms in a Global Age / Ed. by L. E. Cady, E. Sh. Hurd. New York: Palgrave Macmillan, 2010. P. 3–24; Christianity and Modernity in Eastern Europe / Ed. by B. R. Berglund, B. Porter. Budapest: Central European University Press, 2010.
44
Asad T. Genealogies of Religion. P. 207 [см. на русском языке: Асад Талал. Что могла бы представлять собой антропология секуляризма? // Логос. 2011. № 3 (82). С. 56–99. – Примеч. пер.]. Майянти Л. Фернандо отмечает, что с появлением секулярного вера становится «аутентичным вместилищем религии». См.: Fernando M. L. The Republic Unsettled: Muslim French and the Contradictions of Secularism. Durham, NC: Duke University Press, 2014. P. 166.
45
Так, Кэтрин Уоннер считает, что более продуктивный способ понимания советского секуляризма – изучение его в контексте структур и методов управления, поскольку «именно потребности управления жизнью общества, изменяющиеся с ходом истории, провоцируют взлеты и падения интенсивности религиозных чувств и изменяют понимание того, что представляет собой вера и соответствующая практика». См.: State Secularism and Lived Religion. P. 9.
46
Atheist Secularism and Its Discontents. P. 7. См. компаративное исследование по секуляризму, где предпринята попытка максимально расширить спектр конституирующих черт «секулярного» и указать на ограниченность отождествления секуляризма с либерализмом: Secularism and Its Critics / Ed. by R. Bhargava. New Delhi: Oxford University Press, 1998.
47
Fürst J. Stalin’s Last Generation: Soviet Post-war Youth and the Emergence of Mature Socialism. Oxford: Oxford University Press, 2010; Raleigh D. J. Soviet Baby Boomers: An Oral History of Russia’s Cold War Generation. New York: Oxford University Press, 2013 [см. в русском переводе: Рейли Д. Советские бэйби-бумеры: Послевоенное поколение рассказывает о себе и о своей стране / Пер. с англ. Т. Эйдельман. М.: Новое литературное обозрение, 2015. – Примеч. пер.]; Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange / Ed. by D. Fainberg, A. Kalinovsky. Lanham, MD: Lexington Books, 2016. Особенно ценный вклад в изучение идеологии позднего советского периода внесли труды по истории советских средств массовой информации. См.: Wolfe Th. C. Governing Soviet Journalism: The Press and the Socialist Person after Stalin. Bloomington: Indiana University Press, 2005; Bren P. The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010; Roth-Ey K. Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media Empire That Lost the Cultural Cold War. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011; Evans Ch. E. Between Truth and Time: A History of Soviet Central Television. New Haven, CT: Yale University Press, 2016.
48
Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. Berkeley: University of California Press, 1999; Yurchak A. Everything Was Forever until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006, а также переработанное издание этой книги на русском языке: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014; Zhuk S. I. Rock and Roll in the Rocket City: The West, Identity, and Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010; После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985): сборник статей / Под ред. А. Пинского. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
49
Kenez P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917–1929. New York: Cambridge University Press, 1985; Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
50
О подспудных течениях в Коммунистической партии см.: Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2003; Mitrokhin N. Back-office Михаила Суслова, или Кем и как производилась идеология брежневского времени // Cahiers du monde russe. 2013. Vol. 54. № 3. P. 409–440; Humphrey C. The «Creative Bureaucrat»: Conflicts in the Production of Soviet Communist Party Discourse // Inner Asia. 2008. Vol. 10. № 1. P. 5–35.