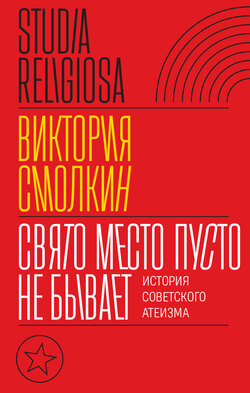Читать книгу Свято место пусто не бывает: история советского атеизма - Виктория Смолкин - Страница 15
Глава 1
Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине
На атеистическом фронте без перемен
ОглавлениеОзначало ли сближение Сталина с православной церковью и сам поворот в религиозном вопросе отказ от прежнего партийного понимания религии? Безусловно, новые отношения между государством и церковью порождали у современников множество толкований и дезориентировали как обычных советских граждан, строивших различные умозаключения о месте религии в послевоенном обществе, так и партийных работников, которые восприняли новые порядки как предательское отступление от идейной чистоты237. В своем исследовании, посвященном религиозному возрождению в годы войны, Перис отмечает, что многие верующие воспринимали сталинский поворот как возвращение к «естественному» порядку вещей. «Верующие, давно привыкшие к тому, что государство берет на себя ответственность за все сферы деятельности и даже мысли, теперь уверовали, что забота об их православных душах тоже перешла в компетенцию государства». В самом деле, некоторые верующие воспринимали Совет по делам РПЦ как возрожденный Святейший синод и обращали свои прошения одновременно патриарху и Карпову, используя «смесь дореволюционной и советской терминологии, свидетельствовавшей о союзе церкви и государства»238. Как пишет Перис, «сталинская реплика, обращенная к Карпову на встрече в сентябре 1943 г., что Карпов не должен стать обер-прокурором церкви… звучала неубедительно. Практически на следующее утро были восстановлены многие элементы дореволюционных отношений между церковью и государством»239.
«Активное ядро» партии, с другой стороны, чувствовало себя чуждым новому порядку вещей240. Партийных работников, которые в течение 1930‐х гг. закрывали церкви, проводили репрессии против духовенства и выискивали подпольные религиозные общины, сбивало с толку санкционированное возвращение религии в общественную жизнь и явное исчезновение атеистической пропаганды241. Так, Шкаровский отмечает, что многие чиновники выражали свое неудовольствие «сближением» государства и церкви242. Но идеологические ортодоксы составляли относительно небольшую когорту членов партии, тогда как большинство партийцев едва ли глубоко овладели марксистским или марксистско-ленинским учением. Более того, идеология сталинизма уже претерпела существенные изменения в 1930‐е гг., когда партия боролась за создание официального нарратива, который оставался бы в пределах марксистско-ленинской доктрины и при этом был адресован не только убежденным сторонникам этой доктрины, но и более широкой аудитории243. Поэтому большинство партийных работников практически не были обеспокоены возвращением религии и исчезновением атеизма. По словам Периса, они «полагали, что возродившаяся церковь займет свое „естественное“ место – подчиненного элемента государства»244.
Некоторые исследователи подчеркивают преемственность между политикой первых лет советской власти и новым сталинским курсом, отмечая, что большевики в религиозном вопросе последовательно ставили политические задачи выше идеологических. Историк Арто Луукканен в своей работе, посвященной Комиссии по делам культов, пишет, что советская «генеральная линия» в отношении религии всегда диктовалась в большей степени нуждами политики, чем идейными мотивами245. Шкаровский считает Сталина политическим прагматиком, за чьим противоречивым курсом в отношении религии скрывались неизменные приоритеты – забота об эффективном управлении и безопасности. Шкаровский подробно рассматривает процесс «огосударствления» церкви, развернувшийся в период с 1943 по 1948 г., считая, что речь шла о мобилизации церкви государством ради внешнеполитических и внутриполитических целей. Все это подтверждает, что для Сталина политические задачи были приоритетны по сравнению с идейными убеждениями. Как пишет Шкаровский, «и в атеизме, и в религии он [Сталин] видел общественные феномены, которые должны служить его системе каждый по-своему»246.
Сталинский отказ от воинствующего атеизма может служить подтверждением этих выводов. Религиозное возрождение в военные годы как на тех территориях, которые были оккупированы немецкой армией, так и на тех, которые оставались под советским контролем, показало, что воинствующий атеизм был лишь тонкой оболочкой, которую легко снять247. Действительно, к концу 1930‐х гг. официальная поддержка воинствующего атеизма практически прекратилась, хотя сами воинствующие безбожники, кажется, еще не понимали этого. В 1939 г. Федор Олещук, сын священника и заместитель председателя Союза воинствующих безбожников, опубликовал в партийном журнале «Большевик» статью, где призывал к интенсификации пропаганды воинствующего безбожия. «Всякий, даже самый „советский“ поп – мракобес, реакционер, враг социализма», – писал Олещук, настаивая, что партия не должна знать отдыха, пока не сумеет «сделать всех трудящихся атеистами»248. Хотя одинокие голоса безбожников продолжали твердить о своей преданности делу атеизма, новый политический климат не сулил воинствующему безбожию ничего хорошего. Фактически еще до того, как Сталин придал новому партнерству между церковью и государством организационную форму, восстановив патриаршество и создав Совет по делам РПЦ, он принял ряд важных решений, свидетельствовавших о переходе к курсу, где задачи управления будут важнее идеологии. С началом войны атеистические периодические издания и издательства были закрыты, как и большинство антирелигиозных музеев, и большая часть организаций, отвечавших за атеистическую пропаганду, была распущена. Когда в 1943 г. умер Емельян Ярославский, вместе с ним ушел из жизни и воинствующий атеизм.
237
Шкаровский М. В. Сталинская религиозная политика и Русская Православная Церковь в 1943–1953 годах // Acta Slavica Iaponica. 2009. Vol. 27. P. 1–27.
238
Peris D. «God Is Now on Our Side». P. 107.
239
Ibid. P. 108–109.
240
Ibid. P. 114.
241
Ibid. P. 111–112.
242
Шкаровский М. В. Сталинская религиозная политика. С. 7. Ряд российских историков также рассматривает санкционированное государством возвращение религии в жизнь советского общества при Сталине как «нормализацию» церковно-государственных отношений в Советском Союзе. Например, Чумаченко и Одинцов в своих работах характеризуют последние годы сталинского правления как период нормализации церковно-государственных отношений.
243
Как доказывает Бранденбергер, большевики в конечном итоге так и не смогли найти решение, которое примирило бы эти противоречащие друг другу цели, и оживление националистических чувств стало ответом на идеологический кризис, произведенный разрушением советского пантеона в ходе Большого террора 1936–1938 гг. См.: Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа.
244
Peris D. «God Is Now on Our Side». P. 115–116.
245
Luukkanen A. The Religious Policy of the Stalinist State.
246
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999. С. 201. Шкаровский подчеркивает значимость Русской православной церкви на международной арене: «Московская Патриархия расценивалась руководством СССР прежде всего как инструмент государственной внешней политики – в разные периоды более или менее важный». – Там же. С. 9.
247
Peris D. «God Is Now on Our Side». P. 102. Как отмечает Перис, исследуя возрождение религиозной жизни в годы войны, «то, что сотни тысяч, если не миллионы русских людей на территориях, которые никогда не были оккупированы немцами, желали так или иначе публично идентифицировать себя с православием, показывает непрочность здания официального атеизма, возводившегося несколько предшествующих десятилетий… что стало ярким свидетельством неспособности большевиков утвердить абсолютное первенство советских символов, пространств, обрядов, объединений и морали над теми, которые были унаследованы от православной культуры… Претензии режима на вечность бледнели в сравнении с притязаниями православия, и воззвать к Богу казалось необходимым, когда надежда на советскую власть не помогала… Если многие православные не видели противоречия в том, чтобы верить одновременно и советской власти, и православной церкви, это можно считать бесспорным провалом режима, который изначально требовал исключительной идейной преданности». – Ibid. P. 102.
248
Олещук Ф. Коммунистическое воспитание масс и преодоление религиозных пережитков // Большевик. 1939. № 9. С. 38–48, цит. с. 39, 47.