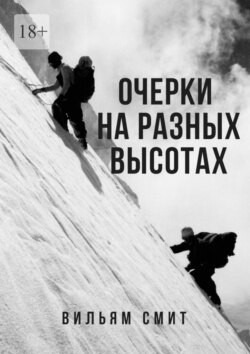Читать книгу Очерки на разных высотах - Вильям Артурович Смит - Страница 6
Часть первая. Триптих. В те года…
1.Его называли «Святой», и это не было просто прозвищем
Кавказ, Безенги и Адылсу, 1959 год
ОглавлениеВ те «баснословные года» мы вообще не представляли себе жизни без гор и летом следующего года почти тем же составом снова оказались в Безенги. Первым делом нам предстояло поставить памятные доски на могилах Володи и Юры. Сделали, помянули… Знаю, что они там сохранились и по сей день, и никто из тех, кто проходит через Миссес-Кош, не забывает там положить цветы в память погибших.
В тот сезон нашей главной спортивной целью было прохождение северной стены Крумкола, одной из проблемных стен района. В предшествующий год мы просмотрели снизу этот маршрут и убедились в том, что он очень интересный и сложный. Ну, а мы считали себя уже достаточно опытными и сильными альпинистами, чтобы попытаться поспорить с горой. Даже мечталось, что, если мы сможем пройти эту стену, то посвятим восхождение памяти друзей, погибших в 1958 году на Шхаре.
На маршрут вышли впятером: Женя Тамм (руководитель), Боб Горячих, Олесь Миклевич, Олег Брагин и я. Перед этим сходили для разминки на Коштан-тау, тоже серьезный маршрут и еще раз убедились, насколько легко нам вместе ходить. Из базового лагеря вышли еще в темноте. Тут случился некий казус: дежурные, что взялись нас напоить с утра черным кофе, спутали кастрюли и заварили черный кофе в мясном бульоне для обеденного супа. Об ошибке они догадались слишком поздно, другого питья предложено не было и пришлось нам выпить этот странный напиток, предварительно спросив у Олеся: «А не будет ли нам от этого плохо?». Тот попробовал, поморщился, сплюнул и вспомнил, что где-то он читал, что подобным питьем под странным названием «эликсир викингов» потчевали конкистадоров в Перу перед дальними походами. Пойло оказалось очень питательным, и нам в тот день удивительно легко шлось.
Но погода нам явно не благоволила. Только мы «зацепились» за скалы и прошли первую сотню метров стены, как повалил снег, видимость пропала полностью, и нам пришлось срочно искать место для палатки. Расчистили площадку, набили крючьев, протянули веревки, сидим пьем чай, а снег все валит и валит. И так до вечера! С утра – все прояснилось, но идти вверх нельзя – лавиноопасно. Тогда начальник Тамм отправляет троих вниз – пополнить запас бензина и продуктов, а сам вместе с Олесем остается «сторожить маршрут». Да-да, именно сторожить – у нас есть конкуренты, команда из «Труда», и, хотя по жребию нам выпало идти первыми, но, если мы сойдем с маршрута, они немедленно выйдут нам на смену.
Через день мы снова все собрались наверху и началась серьезная работа. Первый бастион скал, метров 70, Женя и Олесь обработали и даже навесили веревки. По ним Боб и я быстро прошли и вышли на первый ключевой участок, метров 100 отвесных скал. Сначала здесь можно было идти свободным лазанием, забивая крючья и иногда навешивая двух-трех ступенчатые лесенки. Но вскоре характер скал изменился и пришлось забивать шлямбурные крючья, чтобы создавать искусственные точки опоры и для страховки. Здесь вперед запросился Олесь, говоря, что бить дырки в бетоне – его любимое занятие. Ну, что же раз человек хочет – пускай поработает. Смотреть на его работу было приятно: шлямбур зажат в кулаке, в другой руке айсбайль, и он без устали колотит по головке шлямбура – 15 минут и дырка в скале готова. Забит шлямбурный крюк, щелчок карабина, повешена ступенька и еще полметра-метр высоты отвоеваны. Пройдя таким образом веревки две, мы вышли к началу, казалось бы, более простого участка скал. Там собрались все на узенькой полочке и задумались.
И было от чего: перед нами было метров 300—350 не очень крутых скал (градусов 40—50), но сильно заглаженных и покрытых натечным льдом. Все выглядело как наклонный каток, и никаких выполаживаний или хотя бы островков, свободных от льда. Как это все пройти – не очень понятно. Но делать нечего – надели кошки, и Брагин первым пошел вверх. Лед натечный, не нем кошки держат плохо – Олег начал было рубить ступеньки, а лед скалывается линзами, ступеньки толком не получаются. Прошел с полверевки и его завернули назад – не было никаких возможностей сделать надежную страховку. Вслед за ним попытку предпринял Олесь – он ушел метров на пятнадцать в сторону и попробовал прорубиться там, но с тем же результатом. К этому времени стало очевидным, что даже если мы как-то сможем продвинуться вверх, то нам не хватит светлого времени, чтобы добраться до места, подходящего хотя бы для сидячей ночевки. В довершение картины —погода совсем испортилась, повалил снег и полностью пропала видимость. Женя посмотрел-посмотрел на всю эту безнадегу и мудро изрек: «Ребята, очевидно, гора нас не хочет! С этим не поспоришь – уходим!»
По забитым крючьям быстро скатились вниз, до места прошлой ночевки, но там даже не остановились и еще через пару часов уже были на леднике. Да, это была неудача, но мы сделали все, что можно было сделать в пределах допустимого риска, а кто сказал, что удача всегда должна быть на нашей стороне!
В лагере нас сперва встретили восторженно, решивши, что мы быстро прошли маршрут, но, когда все разъяснилось, порадовались, что «на рожон» мы не поперли. Наши конкуренты из «Труда», конечно, обрадовались тому, что теперь у них появился шанс «сделать» стену Крумкола, а она явно могла принести победителям золотые медали на Чемпионате СССР. На следующий день они бросились с азартом наверх, но погода и их не пустила. Пару дней они провели на маршруте, прошли чуть выше нас, но им также пришлось признать свое поражение.
Через неделю наш сбор в Безенги кончился. Кто-то вернулся в Москву, кто-то отправился на черноморское побережье загорать, а те, кто не смог примириться с «поражением при Крумколе», решили, что им для самоутверждения нужно пройти какую-нибудь другую из приличных стен. Для чего и отправились на центральный Кавказ, в ущелье Адылсу.
Стенных маршрутов там немало. Но нам более всего приглянулась стена пика Щуровского по маршруту В. М. Абалакова. Маршрут недлинный, чисто скальный, не очень сложный, классическая пятерка, на которую ходил уже не один десяток групп. Забежали в альплагерь «Спартак», за консультацией к Абалакову. «Классик» нас одобрил, но посоветовал заточить как следует трикони на ботинках, а кошки вовсе не брать: на стене они не нужны, а Ушбинский ледопад на спуске можно проскочить и без них.
Хотели пойти впятером: Боб Горячих и его жена Наташа, Олесь Миклевич, Мика Бонгард и я. Но местный альпинистский начальник Боб Миненков своею властью отстранил Наташу от восхождения. В ответ Б. Горячих пообещал набить ему морду при первой встрече в Москве, но даже эта «радужная перспектива» делу не помогла, и вышли мы на восхождения вчетвером.
Мы быстро проскочили несложное начало маршрута, вышли на серьезные скалы и пошла привычная работа. Первая связка Боб и Олесь идут впереди, бьют крючья, организуют страховку, а за ними идем мы с Микой по уже обработанному маршруту. Так бы и прошли всю стену в состоянии легкой эйфории от того, что нам легко идется по классическому стенному маршруту, и, вообще, мы – молодцы! Но за такое настроение горы могут и наказать, в чем мы и смогли убедиться на своем опыте.
А было так: Олесь остановился выше меня метрах в десяти и кричит: «Страховка готова! Можешь идти!». Но только я двинулся, как услышал очень тревожный голос того же Олеся: «Ребята, внимание! Этот камень вот-вот пойдет вниз, и удержать его я не смогу». Посмотревши вверх, я увидел, как рядом с Олесем кусок скалы, размером в огромный чемодан, начинает медленно двигаться, а Олесь, стоя от него сбоку, пытается как-то его придержать. Мика и я, как зайцы, бросились в рассыпную, не разбирая дороги. В следующее мгновение я уже ничего не вижу, так как упал навзничь и покатился по камням, бессильный что-либо сделать. Потом я повис на веревке, а где-то далеко внизу раздался грохот камнепада, и на ледник, что был ниже нас метров на 300, просыпался дождь камней. Кричу: «Мика, как ты?» – «Я в порядке. А ты?» – «Я тоже». Мика выбирается ко мне – осматриваем друг друга: действительно, мы всерьез не пострадали и отделались всего лишь ушибами и кровоподтеками. Повезло нам безумно – падающая глыба пролетела, не зацепив нас, а только сдернув веревку. Если бы Олесь не подправил слегка траекторию ее падения, то она могла бы перебить веревку или попросту размазать нас по скале. Сверху показывается непривычно бледное лицо Олеся, спускающегося к нам. Он даже заикается от волнения: «Как вы там? Нужна ли помощь?» – «Нет, у нас все в порядке, мы сейчас подойдем к тебе сами». Откуда-то сверху свешивается голова Боба: «Ну, что вы там все застряли? Зачем-то камнепад на горе устроили! Я закрепил веревку, давайте все поскорее поднимайтесь. Вечером со всем разберемся!» Как выяснилось, нам осталось еще часа три-четыре серьезной скальной работы, и вот уж мы на вершине.
Оттуда замечательные виды на могучий Чатын с его устрашающей стеной, на Ушбу, фантастически привлекательную во всех видах, на Шхельду, невысокую, но с зубьями, как в акульей челюсти, ну и заодно – на все прочие вершины Центрального Кавказа, знакомые нам не понаслышке – на большинстве из них мы уже успели побывать.
Палатка уже стоит, фырчит примус, а вот уже и чай нас ждет. Дневное происшествие вспоминается как дурной сон, не более того. Только Олесь время от времени скорбно покачивает головой, видимо, пытаясь в очередной раз убедить себя, что, действительно, он не мог удержать тот злополучный «чемодан». Напрасно я и Мика пытаемся донести до него самую очевидную мысль – если бы он чуть промедлил и не придержал камень, то тот бы пошел прямо вниз, и тогда мы бы не уцелели. Борька же никак не старается его успокоить, а только дразнит по обыкновению: «А что ему, Святому, стоило не допустить всего этого! Он же не один – с ним же вся эта небесная рать, всякие там серафимы и херувимы, да и сам святой Георгий! Они же этот камень запросто могли на место поставить, но, видно, решили нас немного проучить за самонадеянность. Чтоб знали свое место, а то вишь, владыки гор объявились!»
Наутро мы стали спозаранку и вниз через Ушбинский ледопад – Абалаков оказался прав, кошки нам не понадобились, весь путь был хорошо проторен отрядом альпинистов, что прошли его накануне. Обед у нас был на травяной лужайке на немецких ночевках. Как же хорошо сбросить с себя снаряжение и всю теплую одежду, лежать, загорать и смотреть на нашу стену с благодарностью – она могла бы нас наказать, но только погрозила пальчиком и отпустила.
На том для нас и закончился сезон 1959 года. А про следующий, может быть самый душевный, сезон в горах в 1960 году я уже рассказал в начале своего очерка.