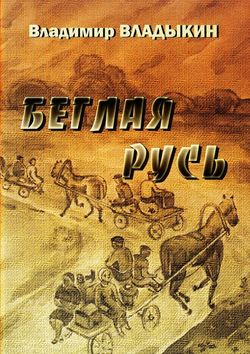Читать книгу Беглая Русь - Владимир Аполлонович Владыкин - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая
Ночные жители
Часть вторая
Глава 14
ОглавлениеДорога в партию далась Жернову нелегко. Сначала у него на пути встал несговорчивый Семакин, который после ареста Сапунова люто возненавидел нового председателя колхоза. 3атем на совещаниях в райкоме нужно было преодолеть некоторое настороженное к нему любопытство со стороны других председателей колхозов, состоявших все до единого в партии. Они смотрели на него как на самозванца, отчего Жернов испытывал себя донельзя неловко. Причём иногда ему казалось, будто его все осуждают за то, что он захватил не принадлежавшее ему место председателя. Правда, на этот счёт он внутренне ярился и злобился, говоря про себя в сердцах: «А что б вас по дороге леший перешиб, ежели так жалеют Сапунова, значит, сами ничем не лучше – свой своего чуют издалека! Нешто пост преда кому-то даётся от самого рождения? Кто заслужил – тот своё сполна получил. Когда мне сподобилось явиться в сей грешный мир, колхозов ещё не было в помине. Так что, я для него и создан, чтобы людьми управлять. Но ничего, к моему норову надо привыкнуть и чем быстрее, тем для них будет лучше. Да, скоро мои недруги узнают каков я рачительный хозяин! И тогда все позавидуют моим успехам. И видит Бог, я всем покажу, где раки зимуют. Погодьте, граждане, малость – ждать недолго осталось, когда Жернов на весь район славой прогремит!»
На одном из районных совещаний, проводимого, как всегда, Яковом Проныриным в его большом, просторном кабинете, к Жернову вдруг явилось неистребимое желание ускорить свой приём в партию. Пока шло совещание, он обдумывал, с какими словами подойти к секретарю-благодетелю, как начать нужный ему разговор, отчего он даже не слышал речей выступавших и даже не помнил, как сам зачитал отчёт, а потом сел на место весь в холодном поту, еле дыша от безудержного волнения. Однако кое-как собрался с духом, решительно отогнал всем усилием воли проклятую нервную дрожь, сосредоточился на том, что должен был сказать Пронырину. Когда кабинет секретаря наконец опустел, Жернов, комкая в руках фуражку, осторожно подошёл к столу секретаря, где всё было чётко разложено по своим местам, и от одного этого порядка на столе он видел в себе нечто жалкое и ничтожное. Но это чувство, как искра, вспыхнуло и потухло. А в следующий момент Жернов ничего не понимая, никого не замечая, лишь видел дорогой силуэт и его лицо, и на нём ловил взгляд, ожидая миг, чтобы хозяин поднял глаза на него. При этом у Жернова всё внутри, как никогда, сжалось, точно промокательная бумага. Его лицо сейчас являло собой вид заискивающего, покорного раба, представшего перед своим всемогущим господином.
– Яков Романович, у меня к вам большая просьба, она касается всей моей дальнейшей успешной работы, – начал он немало волнуясь и от этого стушевался, мял в руках фуражку, как попало. – Понимаете, я давно мечтал вступить в партию. У меня больше нет сил находиться беспартийным среди партийных людей нашего района. И стыдно, лично перед вами, Яков Романович, от этого чувствую себя шибко нехорошо, оставаться впредь беспартийным – мне непристало и, как от горя, мрачнеет душа. И мне, сподвижнику колхозного строя, быть на особинку больше не с руки… Помнится, вы обещали мне как-то помочь, посодействовать…
– Да, пожалуй, это так, – задумчиво заговорил Пронырин – Хорошо, что напомнил; признаться об этом я подумывал сам. Ты среди членов райкома как бы вне закона. Но мы эту ошибку исправим враз, – с надменной улыбкой прибавил хозяин. И Пронырин, испытывающим, холодным, непроницаемым взглядом посмотрел на Жернова, к которому, было время, долго присматривался, находя у того беспрекословное стремление выполнять, исходившие от него, секретаря райкома, все партийные указания. А более сговорчивого, исполнительного председателя колхоза, Пронырин, пожалуй, иметь под рукой не желал.
– Ты, Павел Ефимович, вот что сделай: поезжай к Семакину, чтобы он тебя выдвинул на собрании партячейки кандидатом. А пройдёт необходимый срок, мы тебя утвердим на бюро райкома.
Жернов опустил голову и нерешительно переминался с ноги на ногу, как стреноженный конь, теребя в руках фуражку. А потом, как шагнув в ледяную воду, решительно взглянул на Пронырина, но, правда, получилось как-то растерянно, чего с ним такого не происходило в отношениях с другими людьми.
– Ну, так чего ещё сказал неясного? – недоумённо и, уже раздражаясь, вопросил Пронырин, убирая бумаги в ящик стола.
– Дак Яков Романович не знаю, как главное сказать, то есть, с Семакиным я уже балакал, так он меня того… не уважил… рекомендации не дал…
– Почему? – возмутился Пронырин, глядя сурово на Жернова.
– Да потому, что мы с ним, как на ножах. Вам боялся говорить, – обречённо вздохнув, проговорил Жернов.
– Что так? Выкладывай и ничего не утаивай! – прищурил глаза секретарь, пытаясь разгадать причину их скрытого конфликта, что утаивать от партии для обоих было опасно. Он невольно задумался, и глубокомысленным взором куда-то смотрел мимо Жернова, и про себя прикидывал: как же поступить в отношении враждующих подчинённых?.. И услышал ответ подчинённого как бы издалека:
– Дак всё из-за Сапунова… Семакин стоит за него горой, оправдывает действия врага народа. Вот от этого и разгорелся весь сыр-бор!.
– Я так и подумал! Да, да, Семакин тёртый калач. И как это я о нём совсем забыл «позаботиться». А ведь знал, что он хитрый лис, но когда-нибудь себя проявит так, что вся его сущность вскроется, как гнойник на теле партии, – размышлял Пронырин. – Значит, пособничал врагу народа, будучи его соратником… Ладно… эту помеху с нашего пути смахнём…
На это ушло, однако, немного времени, поскольку Семакина, после предъявленного ему обвинения в лево-троцкистком уклоне, на второй день арестовали. А на его место преда сельсовета поставили Андрона Рубашкина, который незамедлительно, без проволочек дал Жернову рекомендацию о вступлении в партию. Это столь важное для Жернова событие его тотчас возвысило, отчего он себя почувствовал чрезвычайно уверенным в решении любых хозяйственных и политических вопросов. Тем не менее внутренняя сущность его от того, что он стал большевиком, вовсе не изменилась. Единственно, отныне со всеми другими предами колхозов он был в равном с ними положении. Но поздравляли его несколько скупо, не от всего сердца, словно все ему завидовали, а на самом деле презирали, сумевшему обставить партию…
О смещении Семакина с поста председателя сельсоветам в посёлке Новая Жизнь узнали спустя время, причём полагая, что его перевели на другую работу. Но вскоре выяснилось, что он нигде не работает, даже более того, – он вообще бесследно исчез. И от этого у людей рождались однозначные подозрения, отчего они враз менялись на глазах: разговорчивые умолкали, а молчаливые были хмуры и невеселы; в их глазах вспыхивали тревожные огоньки, а в сознании мелькали красноречивые догадки о том, что в действительности произошло с Семакиным. Однако вслух никто не посмел обмолвиться об аресте Семакина, поскольку всеми владел некий суеверный страх. В душе многие люди стали понимать, что кто-то из них запросто может стать следующим?! Если снимают и сажают таких верных партии коммунистов, каким был Семакин, тогда что говорить о простых колхозниках. И всё это думалось народом молча, люди безропотно сносили страхи, утаивая свои сокровенные мысли и чаяния. Правда, иногда на нарядах красноречиво переглядывались, да и то, впрочем, с некоторой опаской и оглядкой.
Хотя этого было вполне достаточно, чтобы между собой негласно обменяться тайными мыслями по случаю ареста Семакина, что для всех было самым трудным испытанием. Как ни старались они забыть, как несколько лет назад людей взбудоражил арест Сапунова и деда Пипки, тот пережитый всеми ими утробный страх, оказывается, ещё не успел совсем вытесниться даже безудержным напором жизни. И не прошло года, как он вновь с новой силой, в связи с постигшей бедой Семакина, неотвратимо вернулся. Жернов это видел по их выражениям глаз, в которых пряталась затравленность, и не произнёсенные вопросы: «За что, почему ты это делаешь, в нелюдя превратился?»
И гадали так все колхозники про себя или шептались: кому мог помешать принципиально-честный председатель сельсовета? Однако на свои недоумённные вопросы не находили исчерпывающего ответа. Да, собственно, не очень старались, разве что, может быть, каждый про себя сделал надлежащий вывод из этой грустной истории, о чём даже у себя дома, среди своих родных, крайне опасались высказываться вслух. Конечно, находились и такие, которые обсудили это событие и вскоре о нём забыли. И таких, которые не знали, как и за что забрали первого председателя колхоза, было треть посёлка, но о том, что в стране шла охота на врагов народа, слышали только от людей да вычитывали из газет. Хотя Фёдор Зябликов был вовсе не из таких, кто на людях шептался или молчал, в хате же, в отсутствие детей, в отчаянии и скорби на уставшем от работы лице, выплёскивал свои эмоции:
– Почему у нас снимают хороших людей, а проходимцы навроде Жернова невредимы?
– Что ж ты так попусту убиваешься, Федя? – вежливо усмиряла Екатерина мужа, стараясь заглушить собственный страх, который испытывала ещё с ареста брата Егора. – Семакина уже никто не вернёт, а своим криком ты можешь нам навредить. Мало ли сейчас гибнет достойных людей, не угодивших властям…
Фёдор соглашался и уходил курить, понимая, что жена полностью права, надо думать о семье… Он вспомнил, как Семён курил на лавочке перед двором и держал свои мысли при себе. С женой Серафимой ему делиться не было нужды, так как наперёд знал её ответ о сатане, помогающем безбожникам и нехристям. Или, как бывало, начнёт защищать власть, которую тоже даёт Бог, какую заслужили люди. И то верно, утратили веру в Бога, поддались бесовским посулам большевиков, то и получили. Правда, давно она убедилась, что не только власти отказались от Бога, но и простые люди, закружившиеся в дьявольском хороводе, и творящие над своими же близкими бесчестье…
Макар Костылёв также предпочитал держать свои мысли при себе. Впрочем, Рубашкина он находил более покладистым, не таким буквоедом, каким ему представлялся Семакин, для которого законность была честью и совестью, как неотъемлемая часть его самого…
Разумеется, о снятии и аресте Семакина одним из первых узнал Жернов. Но об этом перед собравшимися на наряде колхозниками он нарочно промолчал, не желая, чтобы люди истолковали его сообщение исключительно по-своему, а именно, заподозрив его, Жернова, в причастности к аресту Семакина. Впрочем, это известие он и сам воспринял с тайным опасением, что вот так же и его тоже могут увести. Но пока стоит у кормила власти Пронырин, ему не угрожало это. Тем не менее он приходил на наряды довольно хмурым, хотя в душе был чрезвычайно доволен, что наконец противник повержен не без его участия. А на Рубашкина он найдёт в случае чего сам управу, но пока Андрон его почитает…
Жернов отдавал весьма скупые распоряжения Костылёву и скоро укатывал на линейке в город, а тот гадал: наверное, проверять другие усадьбы их колхоза, ведь раньше он ездил туда довольно редко. Но разве поймёшь, что у другого на душе? Жернов же дорогой погонял меланхолически кнутом лошадей и перебирал в памяти запечатлевшиеся на наряде выражения лиц колхозников. И многие ему не нравились, хотя в них ничего не находил для себя опасного, кроме испуга и растерянности. Но как paз это обстоятельство его огорчало и злило, что люди его молчаливо по-прежнему осуждают, и вместо того, чтобы испытывать перед ним животный страх, или быть ему благодарным за улучшение их жизни, они считают его виновником ареста Семакина…
Ну и пусть, что ему до настроения колхозников?! Ведь они должны знать, что на одного врага стало меньше: заговор последышей Троцкого раскрыт. Надо бы приехать к ним в колхоз Пронырину и всем объяснить, каким злостным врагом партии и народа оказался их Семакин. «Ежели в своих башках они жалеют его, а меня осуждают, тогда и они есть последыши Троцкого. А ежли я им объясню? Нет, не буду унижаться, всё равно это быдло мне не поверит, и без того косятся, будто во мне видят палача!»
И он злился на этот немой, безропотный самосуд людей, вынесших ему, по молчаливому согласию, небось, суровый приговор. Можно было бы выбросить это из головы, как он делал раньше, однако Жернов сознавал за собой истинную вину. И как бы он не пытался напрочь забыть некогда содеянный грех, его всё равно мучила совесть, что он, Жернов, напрямую причастен к аресту Семакина. И тут же пытался представить дело так, что к нему он не имеет никакого отношения, так как участь Семакина была предопределена борьбой со скрытыми врагами суровым временем, требующим жертв ради счастья будущих поколений. А если разобраться, Семакин не желал написать ему, Жернову, рекомендацию в партию, и тем самым наносил вред колхозу, ведь он, председатель, улучшал жизнь колхозникам, будучи беспартийным. Это благодаря ему в 1934 году от людей отхлынула реальная угроза голода. Но этого факта они упрямо не желали признавать. Разве это сопоставимо с тем, что Семакин для них только и делал, что справки выписывал, вот и вся его реальная заслуга! Он мешал людям жить, на колхозном собрании надо так прямо и заявить. Но он, Жернов, скромничает, не хочет давать позитивную оценку своей работе. И лучше не заострять на себе их внимание, а то подумают, что желает оправдаться, очистить совесть, а Семакина совсем смешать с грязью. Лучше делать вид, что ты не сведущ о решениях райкома. Но он и впрямь почти не держит в руках газет, потому что был занят работой с утра до вечера и ему даже некогда следить за политическими событиями, происходящими в стране. Хотя на самом деле на совещаниях в райкоме всегда освещаются принимаемые партией политические решения и до всех доводится, что сказал на очередном пленуме товарищ Сталин, всемудро и всевидяще руководяший рабоче-крестьянским государством, строящим социализм…
Вскоре после снятия Семакина Жернов вступил в партию. И говорили, будто новый председатель сельсовета Рубашкин не без угодливости предложил Жернову пополнить ряды большевистской партии, чтобы потом, в случае чего, не полететь следом за Семакиным. Но как раз этого тому нечего опасаться, так как его деятельностью председателя сельсовета в райкоме были вполне довольны. Ещё бы, если при Семакине к посельчанам не наведывались с описями всего их имущества, построек, деревьев, животных, птицы, не обмеривали при дворах землю, то теперь это делали весной и осенью. И поневоле народ с благодарностью вспоминал Семакина, который давал людям свободно дышать, не оглядываясь, уверенно работать в свободное от колхоза время на своих подворьях. А теперь эта лавочка закончилась, и первым, кто радовался, что она осталась в прошлом, был Жернов, который всем представлялся страшней помещика, служивший верноподданнически райкому. Ведь кто, как не Пронырин, также одобрил Жернова по взятым обязательствам на сверхплановые поставки всех видов культур, которые он выполнял по первому требованию Пронырина. А на совещаниях секретарь райкома неоднократно ставил его в пример, особенно тем председателям колхозов, которые часто срывали сверхурочные поставки хлеба. И выходило, что Жернов был самый исполнительный хозяин, пёкшийся об интересах государства больше кого-либо, за что среди председателей получил прозвище выскочки…
Но упрекнуть Жернова открыто в каких-то особых личных отношениях с Проныриным никто бы, пожалуй, не решился, и остерегались давать оценку странной дружбе как секретаря, так и председателя колхоза имени Кирова. А с другой стороны, Пронырин не считался сторонником создания вокруг себя близкого окружения из любимчиков. Тем не менее у секретаря такие были, с ними он поддерживал такие отношения, которые способствовали укреплению его партийной карьеры. Хотя он делал упор на то, что стремится укреплять не только свои партийные позиции, но и повышает авторитет партии, и чтобы все работали как он, Пронырин. И если кто-то будет уклоняться, он так же покарает, как в своё время за вольнодумство и отступление от проведения политики партии поплатился Сапунов, а после него отправил далече трёх председателей колхозов: двух расхитителей и одного не выполнявшего хлебозаготовки. Но из всех снятых, как доносили ему холуи, Сапунов всё ещё жил в памяти людей.
А между тем в народе твёрдо жило убеждение, что за хорошего человека всё равно рано или поздно последует кара Господня. И кто так считал из людей – была Серафима Полосухина, а ей вторил муж Семён. Ульяна Половинкина как-то было изрекла почти то же самое на наряде, но Роман Климов по-отечески остановил женщину. Ведь миром тогда правила власть антихриста, и он верил, что на земле она временная, так думал этот мудрый старик, встреча с которым у нас ещё впереди.
О секретаре райкома предпочитали не говорить, но не знали, как можно было ладить с самоуправным председателем Жерновым. А между тем для Пронырина прошедшие годы борьбы за единоличную власть, за укрепление в районе своего могущества, в том стиле, в каком она проходила, его уже почти не волновала, так как он всерьёз полагал, что свою должность – секретаря сельского Октябрьского райкома партии – давно перерос. И оттого нынешняя работа его больше не удовлетворяла; для того он и работал почти денно и нощно, не жалея себя, чтобы по соцсоревнованию районов Азово-Черноморского края идти всегда впереди. В крайкоме его величали передовиком, чего он достигал любой ценой ради того, чтобы занять своё место в крайкоме партии. И теперь его звёздный час пробил, скоро он отправится с докладной запиской о проделанной работе по всем направлениям народного хозяйства.
Но тогда Пронырин ещё не догадывался, что в особом отделе НКВД на него уже заведено дело совсем иного содержания, и вместо ожидаемого повышения по службе из крайкомовского НКВД пришло секретное распоряжение об аресте Пронырина за антипартийную деятельность. Причём такой же участи подверглось несколько секретарей райкомов и горкомов, попавших в чёрный список чистки партийных рядов среднего и высшего партийного звена…
Но об этом он узнал, когда был снят с должности секретарь крайкома ВКП (б) Щеболдаев, тот самый, к которому он должен был идти на приём. И никому из пришедших его брать он не успел объяснить, что стал жертвой чей-то ошибки, он самый верный последователь великого дела Сталина. Хотя в голове вертелся вопрос: «За что?» И первое, что вспомнилось, это эпизод из Гражданской войны, когда, по сути, по его вине был разгромлен конный кавалерийский корпус. Но тогда он сумел вывернуться, так как свидетелей его военной ошибки почти не осталось. А из тех, кто уцелели, он позже уничтожил. Последнего – деда Пипку. И тот самый Соловьёв, руководивший особым отделом, потом рассказал, что дед подтвердил своё кошеварство в одном полку…
– И что он тебе рассказал? – спросил тогда осторожно Пронырин.
– Его передали другому следователю и дальнейшая судьба деда мне неизвестна.
– Что, могли оправдать?
Пронырину тогда запомнилось, как после его вопроса особист так странно посмотрел на него, что пропало всякое желание продолжать разговор. И видя, что секретарь заметно насторожился, Вадим Александрович сказал, что ему запретили говорить. Но потом как-то быстро ушёл. Пронырин в обход своего бывшего боевого товарища пытался узнать, что сталось со стариком. Почему-то о Тронове никто не слышал. А дело было в том, что Вадим Соловьёв хотел узнать: по какой причине секретарь райкома решил избавиться от деда? И пообещав Тронову, что он не пострадает, если всё ему начистоту расскажет. Легковерный старик, конечно, поведал нехитрую историю того, как корпус угодил в засаду и был разбит наголову из-за ошибочных действий комиссара Пронырина; после того жаркого боя уцелела лишь кучка бойцов вместе с командиром. Тем не менее Никанора Тронова Соловьёв не отпустил на волю, отправив куда-то по лагерному этапу и где-то там тот сгинул бесследно…
Арест секретаря райкома Пронырина (который в тот момент также вспомнил, как устранял неугодных ему председателей колхозов, завотделами райкома и райисполкома), с некоторым опозданием ошеломительной новостью докатился в посёлок Новая жизнь. Правда, сначала прошёл слух, что Пронырина сместили со своего поста якобы за превышение своих партийных полномочий, и ещё вменялись ему обвинения в необоснованных растратах денежных средств из госказны и части партийных средств. И только потом поступило уточнение, что Пронырина арестовали как тайного агента мировой буржуазии, принадлежавшего к троцкистско-бухаринскому блоку. Это сообщение на простых людей произвело эффект разорвавшейся бомбы, и люди поверили в справедливость предъявленного Пронырину обвинения, ведь недаром он, как барин, разъезжал на роскошной линейке, а потом и в автомобиле…
Однако, по-настоящему никто не знал, что достоверно скрывалось под этим арестом. Хотя сам факт ареста секретаря, в сущности, наверное, ни на кого такого сильного впечатления не произвёл, как на Жернова, который тут же почувствовал нависшую над ним смертельную опасность, и его охватил такой панический страх, что Марфе пришлось долго успокаивать мужа. А потом, не объяснив ничего, передав свои полномочия Макару Костылёву, он ушёл, и два дня нигде не показывался, не произнося и дома ни одного слова.
А люди на нарядах о том, что произошло с секретарём райкома, между собой старались не суесловить. Конечно все колхозники, услышанной новостью, были настолько удивлены, что одно время их одолевало сомнение: а не пошутил ли кто над ними? Они даже не знали, от кого поступило это известие. И продолжали сомневаться, как мог полететь со своего высокого поста Пронырин – этот всемогущий человек?! А потом пришли к единому мнению, что все ходят под Богом, ему видней, кого миловать, а кого карать. И вместе с тем о секретаре никто так не сожалел, как в своё время жалели Сапунова. И немногие ещё продолжали обсуждать это событие, разве что кто-нибудь тайком между собой пошепчется и замолкнут. Вот как, например, Староумов с Жерновым, сидевшие в амбаре:
– Не нам об этом судить, Ваня, что я могу сказать? А ничего! – хмуро, недовольным тоном буркнул Жернов, наклоняя голову.
– Паша, чую, что-то ты знаешь, да скрываешь? Может, тебе видней, так и надо, не ведаю, – тихо, сокровенно, вглядываясь в Жернова, напряжённой ноткой проговорил Староумов, через стол даже тянулся к визави и шептал: – Мне можно, Паша, я в доску свой, сколько лет вместе работаем, пора не чуждаться, – вкрадчиво, этак осторожно прибавил Иван Наумович.
– Да ты, Ваня, пойми, мне самому очень чудно – никак не могу разобрать: наш секретарь был – такая дальновидная голова! А не удержался – под корень смахнули. Ведь его все почитали и боялись! И в крайкоме, небось, тоже его уважали, ещё слушок ходил – должны были наверх Якова Романовича перевести. И вдруг – на тебе, полетел в другую сторону такой умнющий человек! И што теперь будет в райкоме?! Bот о чём тужу!
– А чего «тужить»? Поставили нового секретаря, узнай его получше, а потом…
– И что ты понимаешь в этом, Ваня, – раздражённо перебил Жернов.– Поставили, но какого! Разбоев совсем другого покроя, к нему не тот подход нужен. А вот какой, я и сам не знаю, надо бы приглядеться. Ты это верно подсказываешь…
Недоумение Жернова вполне было объяснимо. Пронырина он не мог не боготворить, ведь кто, как не секретарь райкома, вознёс его на председательский поcт. Boт поэтому каждое слово Пронырина для Жернова считалось больше, чем закон. И надо же, теперь его не стало, если бы он пошёл на повышение, тогда был бы другой разговор. Между прочим, со дня на день многие в районе как раз этого и ждали, но одни с радостью, другие с сожалением. И если бы это случилось, он, Жернов, им бы бесконечно гордился. А там, гляди, пригласил бы его на маленькую должность, как своего, преданного человека. И он так размечтался, что совершенно забыл о суровой действительности. Ведь Пронырина обвиняли в шпионаже. Жернов с трудом пришёл в себя, охваченный неописуемой в связи с этим досадой. Потом его всё чаще одолевало отчаяние и страх: а что, если станут перетряхивать всё окружение бывшего секретаря, когда новый секретарь райкома Разбоев соберёт на своё первое совещание всех членов райкома? Если, как говорят люди, перетряхнули весь крайком, горкомы, райкомы, словно краплёную колоду карт, то недолго добраться и до него, Жернова. Он больше всего опасался, чтобы не копнули его личное дело, к которому могло быть приобщено его письмо на имя Пронырина, в котором он доносил на тогдашнего председателя колхоза Сапунова. И как он стал этого опасаться, вся любовь к своему благодетелю мигом исчезла, и его мучил один вопрос: уничтожил ли Пронырин столь ценный для него, Жернова, документ? Если нет, тогда рано или поздно он всплывёт наружу! И тогда ему не увернуться от неминуемого ответа, и его тайна разгласится и станет достоянием всех. Но вместе с тем, чутьё Жернову подсказывало, что это может никогда не произойдёт. Да и зачем новому секретарю райкома брать на себя лишнюю ответственность за какого-то там доносчика? Хотя кто знает, что все документы Пронырына не попали в руки НКВД? И до нового секретаря они не дойдут, хотя что может быть страшней НКВД, которое, выходит, имеет власть над всеми? Вот эта догадка пугала и настораживала, похоже, что спасения не было. Хотя ещё неизвестно, как возьмётся править райкомом Разбоев, наверняка станет долго изучать всех, как, например, был произведён в председатели колхоза он, Жернов. Может, начнёт разоблачать подхалимов и нечестивцев разной масти?
Так что складывалась непредсказуемая обстановка, первые признаки которой ещё не обозначились, но уже как бы носились в воздухе. И это кажущееся затишье не предвещало ничего утешительного. Эта неясность начинала его крайне удручать, он всё реже появлялся на нарядах, на току, на полях, а то и воздерживался от поездок в отделения колхоза, находившиеся в городской черте. Он был мрачен, неразговорчив, стоило кому-либо попасться под горячую руку, как он начинал раздражённо отчитывать, дескать, почему лоботрясничают. Староумова он отослал в контору, чтобы принёс от Марфы всю документацию. И теперь, сидя в амбаре, Жернов проверял, как жена вела учёт трудодней колхозников; он долго рылся в бумагах, считал и пересчитывал. Когда к нему пришла Марфа Никитична, предложив просмотреть составленный ею отчёт за квартал, он вдруг накричал на неё:
– Да ты что, сама не можешь себя проверять?! Сколько я буду за тебя работать?
– Тю, Паша, чай, белены объелся, окаянный! – протянула в оторопи, раскрыв широко глаза, Марфа. – А чего тогда подсчитываешь трудодни? Меня проверяешь, али Макара?
– Пошла, стерва, вон! А то я тебя… – и резко взмахнул тяжёлым кулаком.
– Ну, вдарь, я вся перед тобой, зверь! Что на тебя нашло?
Он опустил руку и в душе пожалел, что не в силах поведать жене все свои душевные муки последнего времени. А если нельзя Марфе, то кому тогда можно, неужели такого человека нет? Даже тому же Староумову он боялся пожаловаться на своё крайне гнетущее, критическое положение, словно ненароком угодил в невидимые пыточные тиски, сжимавшие все его внутренности.
Марфе он велел позвать кладовщика и та быстро ушла, он бросил считать, понимая, что теперь это не нужное, бесполезное для него занятие и просто сидел, тупо уставясь перед собой, не услышав даже, как вошёл кладовщик. Впрочем, тот мог входить бесшумно и тихо подсел к нему сбоку тесового стола…
– И что же мы будем делать без него? – посетовал перед кладовщиком об аресте Пронырина, да и то как бы вынужденно, только бы не привлечь внимание проницательного Староумова к тем переживаниям, которые охватили всё его существо с момента известия о снятии с поста районного головы.
– Не береди свою душу, притрёмся и к новому хозяину…
Слова кладовщика подействовали отрезвляюще, он решительно взял себя в руки, нечего напрасно стенать, может, всё обернётся не так плохо, как он себе навообразил? Но его волновало теперь другое:
– Как ты думаешь, Ваня, не вздумают ли перетряхивать колхозное руководство? – спросил Жернов. – А если прознают, что у нас бытуют факты краж зерна и кормов, тогда мне и тебе каюк и не сносить нам головы! Надо поторопиться вывести воров на чистую воду. Признаться, я закрывал на это глаза, думал, если горсть какую кто берёт – не беда, а если подумать, сколько наберётся за сезон? В наше время делать вид, что воровства нет, крайне неразумно. А постановления правительства самых суровых людей не пугают или думают – им всё простят?
– По-крупному у нас никто не ворует, поэтому ловить, Паша, по существу, и некого, – Староумов лукаво усмехнулся.
– Вот и я так думаю. Но в районе у «новой метлы», поди, свой особый взгляд на положение дел в колхозах. Наше мнение ему не навяжешь, им подавай расхитителей да вредителей. И эту кампанию надо обеспечить немедленно, есть ли кто на присмотре – тащи ко мне! Рубашкин, оказывается, бывший особист, уволен по состоянию здоровья. И сей факт мне душу выедает. А ежли он намётанным глазом всё увидит, что тут мы делаем и Соловьёву накапает?
– Да, верно, Паша, надо о себе беспокоиться, а то не ровен час могут тряхнуть. Рубашкин далеко, нужно ему заниматься ловлей расхитителей, небось, отдыхает на новой работе. А мы их ему представляй, как выскочки! И до нас ли там, коли летят такие головы, как Ягода, Бухарин, Каменев, Зиновьев, а у нас вот Пронырин? Это ему наказание за допущенные ошибки в отношении Семакина, Сапунова, деда Пипки. Видать, разобрались наверху, что люди были хорошие, а схватили по малейшей оплошности. Вот Ягода сколько людей зря загубил, партия живо разобралась, теперь настал черёд перегибщиков…
– Откуда ты это всё знаешь? – изумился не без подозрения Жернов, вглядываясь в кладовщика с холодком внутреннего страха.
– Да так вот пришло само, Паша, сидел ночью в каморке курил, раскладывая мыслишки, почерпнутые из газеток… – нехотя молвил кладовщик.