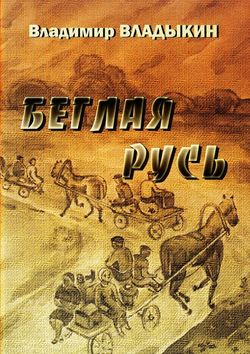Читать книгу Беглая Русь - Владимир Аполлонович Владыкин - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая
Ночные жители
Часть первая
Глава 1
ОглавлениеСколько же было нечеловеческих усилий необходимо затратить народу, который собрался в чистом поле не по своей воле, чтобы как-нибудь обжиться на этой сирой и чужой для них земле; сколько нужно было набраться терпения, чтобы выстоять и осилить полуголодное и полухолодное существование, да и все другие лишения. И земля, как бы понимая их благие намерения, охотно давалась обиходить себя да обстроиться в степи, чтобы всё тут выглядело ухоженным их неослабным, старательным трудом.
Всё лето и часть погожей осени, прилагая всё усилие и умение, люди, как могли, строили хаты. И по обе стороны балки в первый год основания посёлка стояло их уже на одной пять, на другой шесть, крытых то чаканом, то соломой, а у кого-то во дворах разместились даже сараи, курники, а то и летние кухни. И ещё совсем недавно голая, безжизненная степь принимала обживаемый вид.
А между тем для переселенцев уже истекал самый трудный год; незаметно балками, полями, оврагами кралось предзимье. Кряду две недели выдалось холодное осеннее ненастье, а потом чаще стал захаживать морозец, покрывая пожухлые склоны балок, крыши хат и сараев заиндевелым налётом куржака, похожим на крупнозернистые россыпи соли. Утра выдавались солнечными, вдали над балками застаивался туман, а к обеду солнечные лучи съедали иней и кругом становилось влажно и сыро; и как-то острей пахло прохладой. Но вот пришёл заморозок в пасмурный день и уже держался почти целые сутки. Серое небо не просвечивал ни один солнечный луч, и от этого степь казалась мрачной и унылой, как на веки вечные забытая Богом нищенка-оборванка.
По утрам и вечерам над землянками, над хатами, вились серо-голубые дымы то запахом перегорелого кизяка, то запахом непривычного для переселенцев каменного угля, издавна считавшегося на юге основным видом топлива. Потому некоторые просто боялись им топить печи, так как на своей далёкой родине многие из них отапливали избы исключительно дровами. Однако надвигались неумолимые холода, сея страх и отчаяние, а кто сумел прикупить угля, тот мог вполне бесстрашно встречать зиму. Впрочем, и остальные тоже следовали примерам своих земляков, поскольку одними дровами, соломой, бурьяном и хворостом долго не протянешь. Да и всего этого топлива здесь не напасёшься, а без угля тут можно совсем околеть; вот и выходило, что не так страшны были морозы, как холодные сильные ветры, дувшие порой кряду несколько дней…
Например, Староумовы, Полосухины, Костылёвы, Пироговы, Чесаноновы, Половинкины, Зябликовы и другие, кто одними из первых разными путями приехал на Донщину, уже не раз ездили за город на станцию Хотунок и за день оттуда привозили угля по нескольку бричек…
Как раз в ту осень, в ноябре, Фёдор Зябликов ездил на родину в Калужскую область продавать избу да заодно посмотреть на жизнь земляков. Он не раз прогулялся по всей деревне из конца в конец; почти все избы остались при своих, прежних хозяевах, и ничего тут сильно не переменилось. Только брошенные подворья умерших, да их, Зябликовых, без хозяйского догляда пошли в запустенье и попёр дуром чертополох, хотя поздней осенью он уже засох. Их приусадебный надел, который за годы колхозного жалкого существования хоть как-то ещё кормил семью, тоже зарос бурьяном, а из-под фундамента избы торчали будылья лопухов…
Ещё не продавая избы, оставаясь в ней пока временным жильцом, Фёдор почувствовал такую неизбывную тоску по семье, что не удержался и в первую же ночь написал жене Екатерине о том, как тут без них текла жизнь. После их отъезда из деревни уехали ещё несколько семей. А те две или три семьи, что уезжали раньше них, Зябликовых, вскоре вернулись и больше никуда не трогались с места даже в самые страшные голодные месяцы, когда уже почти было нечего есть. Но вот чудом перемогли, выжили, и все прежние тяготы остались позади. Хотя полного продовольственного облегчения, увы, не наступило, несмотря на то что в колхозе появилось два трактора, один комбайн, новые сеялки, веятельные агрегаты. С хлебом к осени стало немного полегче, до следующего урожая на едока выдали почти по два центнера, да и со своего приусадебного огорода накопали по нескольку мешков картошки. А кого-то выручали свои коровы, так что худо-бедно надвинувшийся было всей костлявой грудью голод перемогли, перебороли.
И не без зависти наблюдая неспешную жизнь земляков, Фёдору неожиданно поманилось вернуть семью назад, так как теперь ему стало ясно, что тогда, поддавшись собственной панике и заманчивым посулам вербовщика, он допустил непростительную ошибку. А когда некоторые односельчане и председатель Уваров уговаривали его вернуться к своим корням, он осознал это ещё больше. И только теперь со всею полнотой он постиг ту истину, что родину ничто не заменит, и он настолько глубоко проникся этим смыслом, что было совсем поддался уговорам земляков, и был готов вернуть семью на родину. Но тут вдруг вспомнил, что там, в чужой земле, покоится его мать, которая ещё при жизни простила оступившегося сына и потому он не должен её бросать, это приравнивалось бы к предательству. И как никогда Фёдор невольно загрустил, задумался. Когда деревенские мужики – Иван Макаров, Силантий Пантюхов – узнали о его утрате, они только посочувствовали, но не осудили, что в далёком краю обрёк старую мать на такую горькую участь. Но и бывшие приятели тоже поведали, как по их селу свирепой косой прошёлся голод и унёс несколько дряхлых стариков и даже детей, но остальные, слава Богу, выжили и теперь здравствуют.
В Кухтинке Фёдор погостевал недолго – часа два; проведал Епифана, который всё так же, как и раньше, работал лесником; навестил Настю с её повзрослевшими дочерями и единственным сыном, родившимся уже после ареста мужа. От неё узнал, что их председателя сельсовета Антипа Бедина арестовали якобы за утаивание недоимщиков. Он также проведал и Нюту с мужем Ерофеем с их тремя детьми. Муж Нюты в колхозе всё так же плотничал и потихоньку дома, столярничая, выполнял заказы людям. И жизнь для них шла счастливо, но с Ерофеем Фёдор никогда ни о чём не беседовал, тот был всегда как-то таинственно молчалив, точно знал нечто такое, чего другим знать не положено. А вообще, он был по натуре такой: политики не касался, жил тихо, никого никогда не задевал. И даже ни с кем не выпивал. Впрочем, Фёдор тоже не жаловал зелье. Нюту он плохо знал, ему просто хотелось посмотреть, как живёт старшая сестра его жены, чем и выполнил наказ Екатирины. Её сестра была мастерица по вышивальному делу и передала жене несколько накидок на подушки с выбитыми на них затейливыми узорами. А Фёдору, пришедшему к ним с пустыми руками, было неловко принять такой роскошный подарок…
И он, пригласив приехать к ним, на Дон, в гости, скоро попрощался; и уходил с мыслью, что Ерофей с Нютой, как и все тут, перемогли трудные времена. Получалось, только он, Фёдор, струсил, покинул родную избу. И теперь находился в Аргуново гостем, а в избе от их прежней жизни не осталось и следа, и он почувствовал какую-то особенную щемящую боль, что теперь им здесь уже никогда не жить, а изба перейдёт навсегда к чужим. Он только довольствовался тем, что познакомился с жизнью земляков, и она вызвала из памяти прошлое, по которому вдруг неутешно заныла душа, отчего даже хотелось заплакать, чего раньше с ним никогда не случалось… И он не знал, что изба, срубленная его руками, простоит ещё не один десяток лет, а его самого будут помнить только соседи да родственники жены…
В конце письма Фёдор написал Екатерине о её брате Егоре, который в самом начале своего лагерного злоключения прислал жене Насте по оказии два скупых сообщения, что сослан аж за Полярный круг, что пока жив, и больше от него не получила ни одной весточки, однако, несмотря ни на что, она терпеливо продолжала ждать мужа…
Конечно, о своих чувствах он не писал жене, и никак не мог понять: почему он так легко погнался за хлебной приманкой вербовщика? Спустя несколько месяцев, когда голод уже не угрожал и, наверное, совсем отступил, легко было недоумевать, а тогда во имя спасения своих детей жили в постоянном страхе…
Напоследок Фёдор всё же приписал свои сомнения: не ошибочно ли они осели на юге по воле вербовщика? И будто напрочь забыв о похороненной матери на тамошнем городском кладбище, он опять надоумливал жену: а почему бы им и впрямь не вернуться в родную деревню. И она, Екатерина, там должна без него с детьми одна собраться в обратную дорогу, а он будет тут её ждать, чтобы и ему не тратиться на обратную дорогу. Но сначала должна была письмом уведомить, как она посмотрит на его предложение. И он отнёс письмо в сельсовет. Председатель Пётр Иванович Наметов встретил его радушно, расспросил, как там, на Дону, живётся им. Фёдор как мог обрисовал картину, но так, чтобы у Наметова не сложилось мнение, будто он действительно жалеет о своём поступке, променяв родную деревню на чужбину, где ничем не лучше, чем здесь. Конечно, на юге живётся неплохо, хату своими силами поставили, скоро обзаведутся своим хозяйством. И тут, под влиянием участия Наметова, он проговорился, что вопреки всему тянет его родина своими путами; и Наметов, бодро подмигнув, поощрительно поддакнул, дескать, правильно, всегда так тебе говорил и вот оказался прав…
Получив письмо от мужа, Екатерина расстроилась, собрала детей на совет: Нина и Денис к задумке отца – вернуться домой – отнеслись крайне враждебно. Они вовсе не намерены уезжать из тёплого края, уже привыкли здесь ходить в школу. И Екатерина, несмотря на описание мужа того, как бедственно жили её сестра Нюта, брат Епифан, невестка Настя и все земляки, приняла мнение детей. Заручившись их твёрдой поддержкой, так прямо и написала: теперь нечего мотаться взад-вперёд. Да ещё так хотелось строго отчитать Фёдора, такого всегда идейного и вдруг проявившего не похожее на него малодушие. Хотя в душе понимала, что мужа не отпускает родина, он почувствовал неистребимый зов предков. Это ему наказание за то, что не понимал свою мать, которая ни в какую не хотела покидать родную землю. На что она, Екатерина, так далеко от родины, но тоже чувствует её даже на расстоянии. Ведь нигде невозможно скрыться от воспоминаний, так как в памяти сохраняется почти вся их прежняя жизнь. Но ради детей, желающих жить на юге, она одолеет все сомнения и будет поддерживать лишь письмами духовные узы с родными, уж с ними даже насильно невозможно порвать связь. А тут она окунулась в новые, обступившие со всех сторон, заботы, и не одними домашними делами, но и работой в колхозной огородной бригаде. А сколько забот уходило на Нину и Дениса, учившихся пока в городской школе, куда часто наезжала проведать их. Однако, когда читала письмо Фёдора, Екатерину неожиданно взволновало предложение мужа. В тот момент она чуть было не вышла из себя: ты, дескать, тут с детьми собирайся в дорожку, а он там подготовится к их встрече?! Вот уж на кого-на кого, а на Фёдора это было совсем не похоже, точно бес водил его рукой, а не он писал. Она должна собрать багаж, для которого нужна мужская сила, а потом грузить весь скарб в багажный вагон на станции? Хорошее дело навязывал слабой женщине! Вот тут она отказывалась понимать мужа, ведь не она, а он, Фёдор, был зачинщиком отъезда в чужие края. И почему же вдруг заблажил вернуться? Но это ей совсем было непонятно. Неужели на Фёдора так сильно повлиял Намётов, что напрочь забыл, как ещё в её бытность председателем колхоза муж ревновал её к нему, председателю сельсовета? Хотя в день отъезда на родину мужа, когда сел в вагон, у неё почему-то тоже возникали такие же думки. Но не о Наметове же она тогда думала, который иногда выручал её, когда секретарь райкома Снегов обвинял её во всех грехах, какие на неё сваливались из-за увиливания от работы некоторых колхозников, которые хотели только числиться и чтобы начальство их не трогало. А ведь тогда нелегко налаживалась колхозная жизнь, которая для односельчан была не привычна. И вот теперь ей не хотелось снова там пережить тот страх, когда Снегов грозился отдать её под суд за то, что на лугах осталось не убранное сено. И она большим усилием воли подавила в себе сиюминутное желание, чтобы вместе с мужем уехать с детьми на родину, несмотря на то, что тоска по дому порой была невыносимой. Однако вскоре жалость к детям, которые грезили югом, возобладала; она полностью смирилась со своей участью и долей семьи. Это было как бы спасением от всего пережитого на родине, которое под влиянием воспоминания вновь поднялось в ней. Она написала мужу, чтобы там долго не маялся, а то привяжет тоска к родной избе неразрывными узами, и тогда даже разлуке (с ней и детьми) не справиться с этим чувством, выворачивавшим душу наизнанку, что и впрямь потом добирайся с детьми домой сама, вопреки их желанию остаться здесь жить.
Но этого не произошло. Она, при внешнем спокойствии, никогда по-настоящему не умела сердиться. Хотелось ли Екатерине на самом деле уговорить детей на обратную дорогу, она толком не знала, поскольку свои чувства постоянно сверяла с высказываниями детей. «Не хотим возвращаться! Там нам делать нечего!» – говорили на перебой младшие Боря и Витя. Для неё они стали точно духовными и идейными поводырями. Да и хата, построенная и обмазанная глиной её руками, уже впитала в себя частичку её души, и как бы молчаливо удерживала хозяйку, привязав к себе накрепко, и словно тоже умоляла больше никуда не уезжать. И зачем теперь гоняться за счастьем, коли хата и есть отныне их тутошний корень, пущенный ими, наверное, навсегда: с него детям и вести новую родословную. Да и могила свекрови для них теперь как напоминание о памяти рода, хотя остальные предки лежат далеко на родине. Но они будут жить в их памяти и передаваться детям и детям детей. Хотя надолго ли хватит её, памяти-то?
И вот желание детей жить здесь, для Фёдора тоже стало определяющим на все времена существования их будущего рода. И тогда он, найдя быстро в своей деревне покупателя, продав избу, собрался в дорогу, теперь окончательно почувствовав себя среди земляков не долгим гостем…