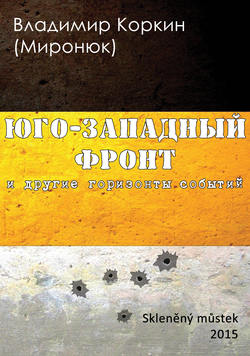Читать книгу На Юго-Западном фронте и другие горизонты событий (сборник) - Владимир Коркин (Миронюк) - Страница 7
Юго-Западный фронт и другие горизонты событий
Кочевали из лазаретов в госпитали
ОглавлениеСтепан и Александр не разлучались в дальнем тыловом лазарете. Здесь они фактически узнали, как в июне и июле развивались события на поле боя. Победа давалась ценой немалой крови. Затаив дыхание, слушали нижние чины воспоминания раненного солдата из 42-й пехотной дивизии о том, как погибли в сражениях всё командиры полков, как расстался с жизнью командир его 166-го пехотного Ровненского полка Сыртланов: полковник со знаменем первым в атаке вскочил на бруствер вражеского окопа, и пал геройской смертью. Другой боец из 3-го батальона миргородцев полковника Савищева 4-й армии говорил, как они под пулями брали один за другим чуть ли не пятьдесят рядов наэлектризованной проволоки. Трофеев захватили море – несколько тысяч пленных, орудия. Потери наших войск были ужасными, за одну неделю наступательных боёв русские войска потеряли только на Западном фронте восемьдесят тысяч убитыми и ранеными. Германская армия не гнушалась применять газовые атаки. Они услышали рассказ пехотинца 10-й армии, как у Сморгони немецкая газовая атака сгубила тысячи бойцов Кавказской гренадёрской и 48-й пехотной дивизии. Геройски погибли офицеры грузинских и мингрельских гренадер. Ушла из жизни, сняв маски, и 1-я батарея второочередной 84-й артиллерийской бригады поручика Кованько, его земляка.
Ранения у наших друзей оказались не тяжёлые. Однако у обоих приятелей развился атеросклероз нижних конечностей, наметились нарушения в костной системе, у них возникали спарадические головные боли, причём со странными для молодых людей внезапными провалами в памяти и даже потерей сознания. Всё явственней проявлялись симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медики полевых лазаретов, загруженные работой с тяжелоранеными, не могли уделять много внимания Хмелько и Миланюку, но и как выписать в часть? Можно комиссовать, только родом они из мелких украинских городков, да ещё и войной побитых. Всё ж кровь за отечество и царя-батюшку пролили. Для их лечения нужны совершенно иные условия. Консилиум врачей решил направить этих нижних чинов в глубокий тыловой госпиталь. Им повезло: попали в лазарет на колёсах. Проверив документы и разные формуляры, фронтовых друзей проводили в вагон для легкораненых. Тут воздух здоровее, чем в соседнем. Там лежат, постоянно постанывая, крест-накрест перебинтованные братья по оружию. Поезд двигался не спеша, долго стоял на станциях и разъездах. Они выскальзывали тогда в шинели, чтобы окунуться в морозец поздней осени, вдохнуть немного свободы, потоптать снежные замети, потрепать ласково, когда подвернётся, привокзальную собачонку, прикупить у проворных бабулек горячих шанежек, одну непременно подать своей сестричке милосердия, чтобы та осталась довольна, не оставила их без своего пригляда. Всё ж отчего-то ломило кости ног и рук, а когда и выкручивала их сила некая, да продолжались непонятные бабьи, как им казалось, обмороки. На конечной станции, сдавая их в губернский гарнизонный госпиталь, доктор Шмидт, главный врач поезда, не преминул сказать лечащему врачу:
– Коллега, необходимо провести глубинное исследование состояния здоровья этих солдат. Чувствую, что у них большой непорядок в крови. У нас нет медикаментов. Внимательнейшим образом изучите в справочнике симптомов заболеваний показания воинов. Всё ж хоть молоды, а в бою побывали. Возможно, в артиллерийском снаряде австрийцев находилась некая неизвестная нам начинка. Они показали, что попали под артобстрел. Желаю успеха вам.
Да какие там внимательные осмотры! Хорошо ещё, что доктор Шмидт слово за них замолвил. Лечащий врач вызвал к себе в кабинетик пожилую сиделку:
– Евдокия, приглядись-ка к новеньким из седьмой палаты. Непорядок у них какой-то с костями ног и рук, теряют, как бабы, сознание, ни с чего из носа порой кровь прёт. Знаю, давняя ты травница. Парни малороссы, хохлы, а за отечество успели пострадать. Неужели на поправку не пойдут?
– Ладно, батюшко. Гляну. Опосля тебе всё обскажу.
Минуло три дня, Евдокия пришёптывала врачу:
– И днём дежурила, и ночью. Такого с молодью, как у них, не бачила. Правда, внезапно, будто бабёнки, млеют. С бабьём такое не в диковинку, а тут – молодцы. Будто порча какая на них наведена. Дай-ко мне время, травками их попою, наговоры древние почитаю.
– Дуся, так засмеют тебя в палате с наговорами твоими.
– А ты, батюшко-лекарь, вызывай их сюда через два дня, когда я сиделю, в свою лекарскую келью. Ты на четвертушку часа уйдёшь по своим делам хлопотным, а я тут как тут с ними.
– И сколько ж ты с ними будешь так вошкаться?
– Грешно так гутарить, они болезные, кровь солдатушкам надо поправить и голову. Раз двенадцать, не мене, мне надоть с ними наедине потолковать. А уж питьё-то моё они станут принимать в своей семёрочке, как лекарство какое-нить.
– Сговорились, завтра и начинай своё дело. Поставишь молодь на ноги, спирта чистого закатаю тебе в поллитровку. Ребята хорошие, не грубые, уважительные.
В новом семнадцатом году у наших парней дела явно пошли на поправку. Хмелько выправляли бумаги на выписку и предписание, к кому и куда явиться для назначения в часть. Миланюка взял в оборот зазывала из штаба корпуса. Дескать, у Александра за спиной мужская школа да бухгалтерские курсы, какая нелёгкая его на фронт понесёт?
– Офицерская школа. И ты офицер, подпоручик. Да ещё владеешь чешским и польским языками, плюс в венгерском кумекаешь. Уж всяко не в окопах будешь вшей кормить. Давай вот подписывай бумагу, не раздумывай, пока я не передумал, и завтра жду тебя к обеду в штабе. Я как раз буду на месте. Пропуск тебе выпишу.
Так определился новый поворот в жизненной стезе нижнего чина Александра Миланюка. По стране вовсю колесил март 1917 года. Со слов раненых он, конечно, знал об отречении царя Николая второго, что всем теперь заправляет Временное правительство. Но лишь на рынке, покупая себе сало, цибулю и домашнюю колбасу он и узнал все новости из старых и новых губернских газет, в которые базарные торгаши и завернули продукты. Радостно забилось его сердце, когда из засаленной страницы узнал, что летом 1916 года русская армия под командованием генерала Брусилова прорвала австрийский фронт, заняла Луцк и оттеснила противника на линию реки Стоход. А крепкие схватки были как раз под Кременцем, где он со Степаном и оказался волею случая. Знакомые и родные ему названия Почаев и Дубно вновь наши. Противоборство русского и австрийского фронтов сохранялось до середины нынешнего, семнадцатого года, а потому местность вдоль рек Стохода и Стыра была искромсана донельзя. По знакомой ему с отрочества дороге Луцк – Дубно почти все хутора и сёла уничтожены. Как саднило в груди, когда узнал, как настрадались люди и их земли в столь кровно известных ему городах Ковель, Дубно, Ровно.
Газетные строки вещали Александру Миланюку о боевых действиях армии, в которой он служил. И вот что он узнал.
Историческая справка
Главную роль генерал Брусилов отвел своему правому флангу – 8-й армии, смежной с Западным фронтом, который должен был нанести врагу главный удар. Он все время помнил, что роль Юго-Западного фронта – второстепенная, и все свои стратегические расчеты подчинял выработанному в Ставке плану, сознательно принося в жертву главное направление своего фронта – Львовское, на котором стояла 11-я армия. Эту дисциплину стратегической мысли военачальники ставили ему в большую заслугу. В 8-ю армию он направил треть пехоты и половину тяжелой артиллерии всего фронта, указал ей направление на Ковель – Брест (указание смелое, если принять во внимание, что до Бреста было 200 верст, а в резерве армии и вместе с тем всего фронта – всего одна дивизия). Командовавший армией генерал Каледин решил нанести главный удар своим левым флангом в луцком направлении превосходными войсками XI и VIII армейских корпусов. Юго-Западный фронт намечал четыре отдельных сражения.
Подготовка к прорыву была проведена юго-западными армиями выше всякой похвалы. Четко организовал «огневой кулака» штаб 8-й армии, ювелирную подготовку пехотного приступа – штаб 7-й армии. Летчики 7-й армии сфотографировали неприятельские позиции на всем протяжении фронта Южной германской армии. По этим снимкам составлены подробнейшие планы, на которых занесены все ходы сообщения и пулеметные гнезда. В тылу нашей 7-й армии были сооружены учебные городки, точно воспроизводившие намеченные для штурма участки неприятельской позиции. Войска учились на них заранее, чтобы затем быть в неприятельских окопах, как у себя дома.
* * *
Александр Миланюк будто впаивал в свою память события и имена командующих: Юго-Западный фронт – генерал Брусилов, начальник штаба генерал Клембовский, 8-я армия генерала Каледина, начальник штаба генерал Сухомлин, после генерал Стогов. Он вчитывался в номера конных и армейских корпусов на ковельском и луцком направлениях. Был упомянут и армейский корпус в резерве фронта, откуда он вместе с другом по прихоти судьбы оказался в расположении передовых частей, а затем в лазарете.
Курсант Миланюк узнал, что главные силы противника противостояли именно 8-й армии – это австро-венгерский конный корпус Гауэра, отдельный сводный австро-венгерский корпус Фата и IV австро-венгерская армия эрцгерцога Иосифа Фердинанда.
* * *
С трепетом вчитывался Миланюк в сообщения, что 15 июля юго-западные армии перешли в наступление по всему фронту от Припяти до Прута. Это был день начала первого Ковельского сражения в армиях Леша и Безобразова, день Кошевской победы в армии Каледина, завершения сражения под Бродами в армии Сахарова и начала Заднестровского сражения армии Лечицкого – самый кровопролитный, но и самый яркий день Мировой войны… На правом фланге XXX армейский корпус генерала Зайончковского форсировал Стоход и глубоко вклинился в неприятельское расположение. В центре I армейский корпус генерала Душкевича не имел успеха, а I Гвардейский великого князя Павла Александровича захлебнулся у Райместа и Немера, понеся жестокие потери. Зато на левом фланге II Гвардейский корпус генерала Рауха разметал группу Лютвица (10-й германский корпус плюс австрийцы) блестящими ударами стрелков у Трестеня и 3-й Гвардейской пехотной дивизии у Ворончина. Были захвачены в плен, либо подняты на штыки германские генералы. Более пятидесяти орудий остались в руках литовцев, кексгольмцев, царскосельских и императорских стрелков. Особо отличился Лейб-Гвардии Кексгольмский полк барона Штакельберга, первым прорвавший фронт врага. Развили этот успех литовцы, Лейб-Гвардия 2-го стрелкового Царскосельского полка, Императорской Фамилии полк, XXX армейский корпус, 319-й пехотный Бугульминский полк. Всего группой Безобразова в этот день взято два генерала, четыреста офицеров, тысячи нижних чинов, немало орудий и огромная добыча. 8-й армии генерала Каледина надлежало наступать на Владимир Волынский. Правофланговые XXXIX и XXIII армейские корпуса, атаковавшие позиции Бернгарди, не имели особенного успеха в боях с 15-го по 19 июля у Киселина и Пустомыт.
Левофланговые же два корпуса совершенно разгромили IV австро-венгерскую армию генерала Терстянского в сражении 15 июля при Кошеве. Честь Кошевской победы принадлежит командиру VIII корпуса генералу Драгомирову, богатырской 14-й дивизии и оренбургским казакам, подхватившим лихим наскоком в шашки сокрушительный удар подольцев и житомирцев на обе дивизии корпуса Шурмая! Их почин немедленно был поддержан стрелками стального корпуса, истребившими 10-й корпус неприятельской армии.
До рассвета подольцы полковника Зеленецкого и житомирцы полковника Желтенко внезапным ударом овладели Шельвов-ским лесом. Подольский полк опрокинул 11-ю австро-венгерскую пехотную дивизию, а Житомирский в рукопашном побоище совершенно истребил 70-ю дивизию. Всего в коротком и ослепительном Кошевском сражении было захвачено два генерала, свыше трёхсот офицеров и девять тысяч нижних чинов, а также орудия и пулемёты. За три часа боя IV австро-венгерская армия лишилась двух третей своего состава, а это по сути катастрофа.
Военные историки пишут, что Кошевское дело составило эпоху в истории военного искусства, когда отказались от длительной артиллерийской подготовки. Огневой шквал длился всего 15 минут, и атака была для неприятеля полной неожиданностью. Генерал В. М. Драгомиров вывел военное искусство из тупика позиционного застоя.