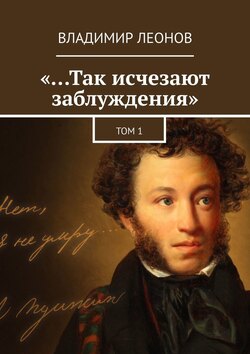Читать книгу «…Так исчезают заблуждения». Том 1 - Владимир Леонов - Страница 8
Глава « Он защищал цивилизацию.»
ОглавлениеОн стал Победителем на все времена. Македонский одерживал победы на физических полях сражений, а он – на полях душевных.
Пушкин это понял и этим воспользовался: «Мой ум упорствует, надежду презирает…»
Для него, прежде всего, существовал человек – живой, антропофил, конкретная явь сущего и – земля, геофилия, на которой он работает. Дабы однажды, канув в Лету, смотреть пращуром с небес на мир землян.
Печать исторической эпохи лежит на всех делах Пушкина: обычный человек с его естественным стремлением к счастью, наслаждению и беспощадная страсть к творчеству; порой она сводит на нет все личные желания…
В поэзии – божественный, мудрый и сердечный. Явления, протекающие энергично и постоянно в его собственной натуре, вместившей не только мир русского, но и человечества русского.
Да, музе своей служил всегда с чувственным благородством; всю свою короткую мятежную жизнь стоял перед Ней в почетном карауле и выплатил сполна дань всем великим явлениям, образам и мыслям, всему тому, что чувствовала и вынашивала в себе Россия. Так свежо и целомудренно страстно им произносилось и горячо объяснялось.
Он не имел поражения, потому что защищал Цивилизацию. Идею мира. Пестовал будущее. И никто уже не сбросит его с пьедестала триумфатора, пьедестала властителя дум.
Такой силы воли и такого безбрежного воздействия на пробуждение, ум и совесть человека Россия не знала, не видела и не чувствовала еще! Физическая реальность, но «бесконечная», «бессмертная», «нет вообще подобия».
И, как робкий росток первоначала личности, пробивается в душу нам пестернаковское: « О совесть,… Я б штурмовал тебя, позорище мое!»…
Этого пьянящего шипящего словесного изобилия, когда поневоле русский человек сам начинал думать яркими образами, возвышенными эмоциями, чувствовать «кончиками пальцев всю красоту мира» и говорит… стихами.
Его лирой была потрясена вся Русь.
Пушкин сделал русское слово последним шансом на обновление и страсть, и тем ключом, который открывает врата нашей истории и надвременного бытия. Этим русским словом, как самой грозной и безмерной силой, Пушкин опоясал границы нашего земного бессмертия.
Сильное, ритмически выдержанное, победительное русское слово, и при том – проникновенное, трогательно и задушевное.
А. Н. Толстой препарировал пушкинский меморандум русской словесности следующим суждением: «Русский народ создал язык, яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбельной».
Да! А Пушкин, словно Ганимед, вылил на головы современников полный ковш этот магического напитка, «амброзии», под названием «русская словесность» – с его мифологической функцией давать вечную молодость и бессмертие, тем самым превратив русский язык в исповедь народа.
Он был болен Россией, болен с рождения и до последнего вздоха на смертном одре; и Россия была изумлена этой благородным недугом и прощала ему, вынянченному в своих недрах любимому чаду, все противоречия, контрасты, взлеты и падения.
Он не заигрывал с чувством национального унижения, не приписывал себе честь великих событий. Терпеливо и без зависти жил в свое время, не извлекая из жизни выгоды, не инспирируя искусственно культ: « В духе мы живем и движемся» (Апостол Павел)
Для окружающих он был неудобным. Во всех смыслах. В 37 лет не иметь ни приличной работы, ни приличной должности (камер – юнкер! Чин капитана, его сверстники давно уже генералы в этом возрасте), пребывать в долгах. Позор своего рода. Не сумевший встроиться в жизнь общества.
Он некрасив, но добр по – христиански. Он умирает, но просит не мстить убийце. Он гоним властью, но способен радовать всю Россию… очень жизнелюбивый в своём изысканном поэтическом многоголосье. Схожий в свой жизнерадостности с ярким желтым букетом «Подсолнухов» Винсент Ван Гоги.
Он не побоялся закрыть глаза на свою непохожесть и неудобность для других и пошел путём Сердца. Чтобы однажды принести столько радости другим, что никому в его роде и не снилось.
Воздействие самой личности Пушкина на нас, современников, настолько велико, что не уступает доминанте его поэзии. По сути, смыслу и ценности Пушкин – национальный духовный властелин, который на глазах у изумленных современников создавал идею будущего, владея потрясающими знаниями о Руси древней и своего времени.
На посрамление вида не имел, в ослепление и заблуждение не вводил. В личину «отца лжи»не одевался, в облике едином добром и славном ходил.
Умел напитать свое воображение и сердце всеми многоликостями и многосмыслами Отечества.
Пушкин – это непревзойденный мастер образов, обобщений и метафор. Он многое скрывал от любопытного взгляда современника, «свертывался в самого себя», если речь шла о создаваемых им поэтических образах.
Он тщательно оберегал и хранил лишь в тайниках своей души черты людей, которых пылко и нежно любил. Нередко лирический образ, идеал нес в себе сгусток эмоционального восприятия поэтом, но лишался четкости, определенности.
А потому становился неясным, загадочным, отражал отношение творца не только к конкретной женщине, которой он посвящал стихотворение (которую любил), но и нес в себе трогательное внимание поэта к женщине вообще как чудной земной сказке.
Лирика Пушкина – это пленительное таинство самой поэзии, отражение всей многогранности судьбы, порой темных и загадочных.
Завораживающая глубина гения. Главный бастион жизненной автаркии.
В его поэзии было много букв, но еще больше смысла. Только самая суть. Выстроенная так, чтобы Читатель сам загорелся изучить и воспринять то, что нужно именно Ему. Подробности, детали, сюжеты. Соборность и державность. Эпохи и нравы гигантского легендарного Отечества.
Пушкин впервые показал смелость и героизм обыкновенного, не изысканного человека. Не римского и русского императора, не Прометея и не какого-нибудь Генерала. А именно будничного человека!
Это было совершенно неожиданно и смело для литературы начала XIX века.
Сочинял вибрирующими словами и звуками. Они словно плыли в высоте, в поднебесье. При этом поэт почти не делает различий между фоном и героями. Все соткано как бы из единой материи.
Пушкин не просто показал атмосферу и лиц. А то, что видят те, кого он описывает!
А видят они это нашими глазами. Ведь мы все едины в потоке времени.
Оттуда, из инобытия, льётся в стихах яркий свет. Там наш мир продолжается.
Два мира: тот, что в поэтической ноте, и наш мир, реальный, повседневный соединены происходящим в поэтике. Как в «Менинах» Веласкеса. Творение Пушкина- это портал между двумя мирами, нескончаемый проход нашей души по безмерной Лете.
Так поэт изумительно соединяет наш мир со своим.
Закольцевал эпоху и время.
Петля времени – это что – то невообразимое! Она отталкивает и притягивает.
Именно так будут писать 50 лет спустя Тютчев, Фет, а затем и Блок и поэты «серебреного века».
Мы теперь понимаем, почему поэты в XIX веке так боготворили ЕГО. Они только начинали, а Пушкин уже давно все сделал…
Еще при жизни поэта развернулась ожесточенная схватка цензуры и литературы. Последнее победило. Пушкин. Строптивый и дерзкий. Лук. Не роза.
Но это была НЕ абсолютная победа. Эта битва сказалась на судьбе и поэта и его произведений. Он вышел из нее не не паяцем и не жонглером.
Это Зевс и Юпитер. Это классика. Это великий мастер. Это священное искусство.
А представьте, как много людей во времена Пушкина жаждали его поэзию изменить и …даже уничтожить:
«Страшный суд» Микеланджело должен украшать не Сикстинскую капеллу, а общественную баню!»
Такова была реакция церемониймейстера Папы Римского, Бьяджо да Чезена, современника Микеланджело.
И порывы Бенкендорфа, современника Пушкина, главы жандармерии, близкие к приведенному историческому примеру, разделяло немало влиятельных персон.
Потому что Пушкин сочинял невероятно мастерски. За пределами мирского понимания. А ещё он очень хотел, чтобы его поэзия шла в массы, пришел век массовой культуры. Чтобы сменить век элитаризма – «культура только для избранных», для тех, кто владеет властью и деньгами – на век эгалитаризма, равенства в доступе.
Поэтому его слова и лира перевернули всё. Обескураженность. Изумление. Культурный шок!
И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем….
Вдруг русские осознали, что не подозревали, какими художественными богатствами они владеют, что у их культуры… есть ИСТОРИЯ!
Не белое пятно с примитивными парсунами А ИСТОРИЯ, долгая и вымученная, но своя, до боли, до крика, до крови в зраке! Со своими художественными идеалами.
Россия была поражена! Невероятным, что теперь русский стих стоит дороже, чем даже шедевры Фра Анджелико, высокоманерного мастера Раннего Возрождения.
В одночасье русские поэты стали такими знаменитыми, как выдающиеся мастера лиры европейского Возрождения.
И сам мир захотел говорить на новом языке, русском. Эпоха кринолинов, париков и виньеток была сметена строгой (но до минимализма), простой и чистой (а здесь до максимализма) соразмерностью слова, смысла, фонетики.
Оказалось, что нам, русским есть, на что опереться! Есть, чем гордиться! И есть, на чем строить культуру, поэзию и прозу будущего!
Пушкин стал как буква алфавита русского. Как атом молекулы. Буква или атом, из которого складывается наш мир четких, простых национальных мыслей, суждений.
И становится понятным, почему поэт гений, а его стихи шедевры. Невозможно Пушкина и поэзию его оценить сами по себе. Только вместе с тем пространством, которому он служил и служит теперь.
Человек был для него тайной. Он ее разгадывал, разгадывал всю жизнь и не говорил, что потерял жизнь, ибо всегда хотел быть человеком, всегда заниматься этим таинством.
Он шел к вершинам, чтобы взять, а когда брал – раздавал. И душу не лечил, чтобы болела. Да, над ним кружило воронье, но укрыться от них – это было не его.
И смерти не боялся, она бодрила его. И верил, чтобы простить и найти. И был против ветра, чтобы тот утих.
Был из тех, кто не отсиживался тихим цветочком на одобрительной клумбе.
В юности он, конечно, самоутверждался и шёл на поводу у своего темперамента – соблазнил монашку в одном из монастырей, несмотря на бдительных церберов – настоятельниц.
Окажись он в Италии, наверняка бы полез на купол собора святого Петра, на купол Микеланджело, и не для того, чтобы полюбоваться площадью, спроектированной Бернини, а чтобы лира русская звучала над ней.
И манерным не был, жесты и выражения – не наигранные, нес в себе простоту и искренность «Мадонны Конестабиле» Рафаэля.
Он смотрел всегда в даль, чтоб не забыть. А мыслил, чтоб понять и жить среди людей, для людей.
Не хотел быть бесцветной креветкой. Не лебезил, и клевретничество было омерзительным для него. Не мельтешил, под ногами идущих не путался. Угодничеством не отмечен, услужливый привратник не уживался в душе гордой.
Тогда честь была важнее жизни и для Пушкина также.
Поэту многое прощали, даже его нежелание льстить.
Сильный, выносливый и раскованный, поэтический вольноотпущенник. Стихи мерцают, изнутри свет наплывающий делает их живыми и гордыми, будто красавица «Эритрейская сивилла» Микеланджело смотрит на читателя.
Его стих не забудешь. Это просто невозможно!
Никому из поэтов не удавалось проникнуть так глубоко в состояние души человека и описать его ТАК РЕАЛИСТИЧНО. ТАК ПРОНЗИТЕЛЬНО! Однажды это смог сделать только один человек, ранее на 200 лет до Пушкина – Рембрандт. В своем шедевре – картине «Лукреция». Римлянка, трагическая смерть которой потрясла устои Рима. Рим свергнул царя. Рим стал республикой!
Это история о том, как одна лира может быть громче всех голосов эпохи. Изумлять и колебать ярые убежденности. Поражать смелостью. Стать окном в инобытие, хотя держать себя в настоящем.
Пушкин смог туда заглянуть и показать нам ее, создать инобытийную красоту Жизни, той, которой так хочется прожить, и которая воздействует сильнее самых громкоголосых аргументов и доводов.
«Поэтический Рублев», ибо он смог состояние Блага, естественного для человека, свободного от суеты и тревог, передать поэтическим Образом:
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать…
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…»
Поэзия Пушкина как идеал, модель чистого, русским черноземом, русским прообразом явленного дарования.
Поэтика, придающая смысл тем невзгодам, недугам и обременениям, которые связаны с величием России: «Поскольку мы делали свою собственною истории, никто не сделали ее за нас» и… «Не стояли на крови ближнего» – Библ.
«Поэтический Будда», дающий ответы на метафизические вопросы жизни, «единый и во всем».
Поэт, своей лирой поднимающий до реперного напряжения нравственную чистоту русского человека с тревожными и радостными судьбами, его «божественный свет» – Совесть и Достоинство.
Мастер слова, тонкая лирическая натура, так неистово ценившая жизнь, создающий благородную философскую концепцию национального характера русской души с ее неимоверным тяготением к свободе и гордости за свой исторический род на земле.
Он потрясающе прорабатывал каждый камушек в короне русской поэзии, его лира была похожа на ювелирное украшение, сверкающие на фасаде России, на яркий изысканный коралловый настой, говорящий о незаурядном уме и благородстве.
Так получилось поэтическое волшебство. Мягчайшие переходы от эмоций к цвету и незабываемым наслаждениям. Ощущение, что читателя обволакивает воздушная пленка. Тончайшие тени чувств. Отсюда и загадочность образов. Кажется, что они сейчас сойдут с поэтической страницы, вздохнут и заговорят… и потому так хочется заглянуть за пределы невероятного.
Он поставил в своей поэзии праведников и грешников лицом к лицу. Как ранее до него за 350 лет – живописец Ян Ван Эйк. (Мадонна канцлера Ролена).
Он первый в истории поэзии поставил Психологию наравне с линией и формой Это вообще за гранью реальности!
Он заботился о внутреннем мире. Он уходил от насыщенных фраз почти в монохром. Это сравнимо с мастерством музыканта, который может сыграть сложное произведение всего на двух струнах.
Для него была первостепенны гармония души и формы.
Близкородственные оттенки эмоций и выразительных фраз, следуя в поэтических композициях друг за другом создают густую консистенцию атмосферы и нравов. А сами тексты, просвеченные изыскательским умом Пушкина, подчеркивает характер и процесс события.
Он не писал тексты чувством обделенности. Он помнить о том, что все обычно и необычно одновременно. И понимал – разница лишь в том, открыт или закрыт наш разум и сердце
Нет нужды отправляться в горы, к копиям, чтобы постичь величие; нужно просто увидеть под другим углом то, что у нас уже есть.
Он вбирал иные тексты, разные опыты, воспитывал и менял вкусы – все это смешивал в крайне выразительный, яркий и эмоционально будоражащий букет вяжущего русского слова с характерной суровой красотой и трогательной нежностью
Он тренировал ум, развивал эстетический вкус.
Он осуществил переход от РЕЛИГИОЗНОЙ поэзии к СВЕТСКОЙ.
А поэтика светская – это реальные люди. Это уже не абстрактные герои, тяжеловесные и величественные, как на картинах Джото, в романах Скотта, одах Державина. У Пушкина это его современники с индивидуальными чертами и наделенные эмоциями.
Поэзия была для него фундаментальным и аскетическом процессом, ибо Александр Сергеевич писал для современников и для потомков. Недаром печатал каждое стихотворение и каждую главу поэм и романа «Евгений Онегин» по мере написания.
У Пушкина все все мирское, живое. Лаконичность резца Фидия, детализировано по Ван Эйку и жизненность Леонардо.
На него будут равняться мастера поэзии не только в российской империи, но и далеко за ее пределами.
Поэтический колорит Пушкина станет путеводной звездой для поэтов будущих поколений. И спустя столетия, превзойти его не получится ни у кого. Он так и войдет в историю России и останется в ней навсегда (» И днем и ночью кот ученый…») как «Солнце русской поэзии». Титан эпохи и империи. Руси древней, ведической и России, которую «Бог создал одну такую».
Поэт вечного. Красивого. Дарующий незабываемое очарование. Его лира венчает всю поэтическую архитектонику России пронзительной освежающей ноткой. Там, где радость лета встречается с мудростью осени, а святые с грешниками, как в картине Ван Эйка.
Пушкин поднял поэтическую планку на невероятную высоту. Всем остальным был задан именно этот путь – к психологической реалистичности и жизненности. Соотношению словесной формы и смыслового содержания, видеть работу слов и композицию фраз, кирпича мысли и воздуха чувствительности. Это как в искусстве идеал – линия Ботичелли, форма Микеланджело, цвет Тициана и вдохнувшие жизнь в портреты Леонардо и Рафаэль.
Стало ясным, дело не в размере стиха как таковом – бинарном «коротко / длинно», – а в том, как гармонично сопровождают и дополняют друг друга словесная форма и смысловое содержание: -«Мы ленивы, не любопытны».
Без Пушкина поэзия бы развивалась другим путём. Путём Державина – главенства документальности, формы, лишенной эмоциональности линий и деталей. Как у «Венеры» Боттичелли. Да, богиня прекрасна, но почти безжизненна, словно душу вынули.
Поэтому Державин и отошел на второй план, – хотя и забыт не был -, не его творчество, а Пушкина стало когда-то авангардным.
И крест свой он нес, как несет Христос Тициана. И смотрит на читателя как смотрит Христос Тициана на зрителя. И задумчиво опускал глаза, как Сын Божий у Рембранда…
Концепт поэтической страсти Пушкина – это всплески настроений: веселых, грустных, решительных… и море памяти по ушедшим и океан любви к живущим на земле людям. Каждая стихотворная экспозиция – очарование, откровение, открытие, разрешая людям лучше понимать свои мысли и чувства и становиться благороднее и милосерднее. Точно пласт земли, обозначающий просто и естественно меру добра и зла, любви и доброты. Как поворот астрального мира, и ты чувствуешь на себе проекцию звездного неба, дух истории и ритмы человеческих сердец, там, в мерцающей тишине заснувшего Неба:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
Ты словно слышишь голос своих предков, видишь их добрые и светлые лица. Всплывают древние сказания о силе русского языка и русского слова, о величии предков и их подвигах во имя Руси. О русских людях, с их тревожными и радостными судьбами.
От этой ворожбы, многообразия и образов, навеянных ладной композицией музея, непрестанно плывущих и меняющихся в сознании, подобно ранним туманам и облакам, возникает комфорт в душе и чувство тепла, возможность отвлечься от бытовых забот, молчаливого одиночества успокаивает, наводит на воспоминания: о Памяти, Величии. Благородстве. И вдруг приходит Откровение, что для внутренней гармонии не нужно скитов и церквей; не нужно суесловий и славословий: ее алтарь – наш собственный мозг и наше собственное сердце, а амвон – это доброта и милосердие:
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим….
Лира поэта несет силу энергетического воздействия, его коллекция стихов снимает плоскую картинку мира, разбавляя глубиной, густотой идей, сюжета, мудрости. Несет в себе миротворческую функцию эскапизма, помогая человеку компенсировать неразрешенные личные проблемы. Поэтические экспозиции невольно детонируют нашу внутреннюю эмиграцию, активизирует генетическую родовую память, вынимают нас из ложного разделения на субъект и объект, снимают маску с лика Времени, которая обманывает нас жалостными и презрительными тонами, скрывая сущность « вечного брака», сожительства под единым венцом и по единой по воле Творца – жизни и смерти:
Там у леска, за ближнею долиной,
Где весело теченье светлых струй,
Младой Эдвин прощался там с Алиной;
Я слышал их последний поцелуй.
Взошла луна —
Алина там сидела,
И тягостно ее дышала грудь.
Взошла заря – Алина все глядела
Сквозь белый пар на опустелый путь.
И делают нас снова цельными существами единого замысла сущего – знающими, помнящими и благодарящими… дают понимание эсхалотичности, откровения истока – « мы всю жизнь учимся умирать», и ты улетаешь в чудный мир, созданный мечтой и воображением поэта мудреца Александра Пушкина, как летал маленький принц Экзюпери. Напрашивается ассоциация с чудо Воскресенья… упорное стремление Пушкина не только найти оправдание связанных с трудностями жизни безверия, но и поддержать у человека надежду на смысл жизни:
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.
Поэтические смыслы Пушкина живут во многогранном пространстве реалий и сказки. Там нет разделения на внутреннее и внешнее, на мир вне человека и внутри него. По сути – то, что массово и приемлимо просто умом и эмоциями. Без малейшего намека на мистикапическое, нет вкраплений некроканнибализма:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Александра Пушкина можно смело отнести к категории «Созидатель», создавшем эпическое зрелище, достойное восхищения людей и богов: культурно – историческое пространство России, звездный паттерн, когда у читателя возникает одновременность чувственного восприятия и понимания закономерностей, как они существуют в природе и обществе; ощущается сладость древних легенд о том, что наша жизнь состоит из доброты и милосердия. Что Творец не железною рукою наводит порядок, но действует с добротой и милосердием И Сам есть Доброта и Милосердие:
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Именно в таком свете увидел и вывел Пушкин свою броскую, напоминающую скальные отвесы – широкие у основания и уходящие острием ввысь, – поэтическую судьбу, к удивлению сограждан поворачивающей зрение эпохи, вводя в широкий обиход ранее табуистический мем «Свободы сеятель»:
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.
Строгая и стройная диорама исторических размышлений… отзывается полифонией чувств и умственных напряжений, научает нас (многих) видеть сквозь пленку внешних событий – существо бытия, живое и трепетное, однажды обожженное страстным жаром Н. Некрасова: « Когда из мрака заблужденья // Горячим словом убежденья // Я душу падшую извлек…»; сеет в душе читающего ощущение величия Вселенной каждой вещью, каждым образом.. И наше сердце растет в этом упражнении добра и надежды, становясь более милосердным, утонченным, менее эгоистическим личным аппаратом…:
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру…
_______________
Изыскано и изящно, подобно бриллиантовому фейерверку, взлетают к небу поэтические мысли, как яркие искры, они на мгновение осветят небесные сферы, придав им сказочный вид, наполнив мелодичностью стройных голосов, а затем уйдут в вечную землю, будоража сердце и волнуя воображение непостижимостью своих изгибов. Впечатление, равное по силе строкам Тютчева: «…ветреная Геба, // Кормя Зевесова орла, // Громокипящий кубок с неба, // Смеясь, на землю пролила».
Дуновение вечного проносится в стихах Пушкина, поистине неизъяснимое, только на подсознательном, биологическом, улавливаемое. Это как бы Потоки грядущего. Дух русских поэтов покоится, быть может, на их первом потомке, на нашем Пушкине:
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил…
При том в стихах чувствуется сосредоточенность, какая-то национальная гордость, какая-то приподнятость мыслей, – в аргументации, цели и стиле духовных сентенций: она – унаследованная, ибо Пушкин принадлежит к великому «сосново – березому роду», у которого темперамент есть природная данность, характер – всегда завоевание и достижение и который предполагает свободу, совесть и родину, он таким приметами пропитан с рождения:
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,