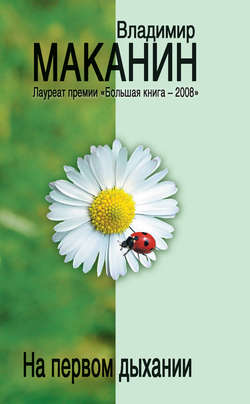Читать книгу На первом дыхании (сборник) - Владимир Маканин - Страница 10
На первом дыхании
Глава 10
ОглавлениеНа рынке я видел мужа Гальки – думаю, что он тоже меня засек в толпе. Но мы не попались друг другу. Не встретились. Через два или три базарных ряда я видел на его лице застывшее кисловато-недовольное выражение. Кисловато-недовольные лица были у всех. Фруктов не было.
Перебой был уже третий день. Я торчал часа два и хорошо промерз. Но я достал.
Какой-то шпендрик (он оказался мужичком лет пятидесяти) поманил меня. Пока я к нему не приблизился, я думал, что это пацаненок. Он сказал, что сегодня прибудет посылка. С проводником. Курский вокзал.
Он назвал цену, и я чуть не присел.
– Креста на тебе нет, родимый, – вырвалось у меня со злобным шипеньем.
Он только осклабился:
– Какой уж тут крест…
– А не мерзлые?
– Ну что ты!
Делать было нечего. Мы отправились на Курский. Фрукты действительно были не мерзлые. Яблоки.
Я не поехал в больницу. Я поехал на следующий день, потому что мне нужно было раннее утро. Из-за карантина внутрь все еще не пускали. Я же хотел потолковать с врачом.
Я подстерег у входа.
– Самочувствие? – переспросил врач.
Он курил на ходу. Усы его заиндевели. Мороз. Но глядел он молодцом.
– Да, самочувствие. – Я заглядывал ему в зрачки. Я хотел бы заглянуть в душу. Я был уверен, что приступаю к длительному разговору.
– Хорошее. Можно сказать, замечательное самочувствие. Скоро выписывать ее будем.
– Как?
– А так. Выпишем, и все.
И он засмеялся. Двинулся к дверям. А я как бы обалдел. Я шел по улице как пьяный. Ну вот, думал я. Вот оно.
Я шел и шел. Тут я, видимо, и простыл. В рот надуло.
* * *
Помню, что я пришел к Бученкову. Меня вдруг осенило. Не может же Галька после больницы оставаться у мужа. Ее выпишут – и ведь куда-то мне надо ее поместить.
Кроме того, мне здорово хотелось поесть. Хотя бы хлебушка. Со всем этим я и пришел.
– Ты думаешь разместить ее у нас? – У Бученкова было очень скорбное лицо.
– Да. На пять-шесть дней. На сборы. То есть пока мы соберемся.
– А потом куда?
– А потом в степи.
Он набрал воздуху в грудь. Помолчал. И мужественно дал ответ:
– Хорошо. Согласен.
А я посоветовал. Расскажи теще правду, и она, быть может, поймет. Правду о нас с Галькой. Иногда лучше всего рассказать правду. Потому что всякий человек имеет свой тихий час. И в этот час она срабатывает. Правда.
– Объясни ей. Сам-то я где-нибудь перебьюсь. Но ведь Гальку пристроить некуда.
– Я поговорю с тещей, – мужественно подтвердил Бученков.
Теперь я хотел поесть, и желательно побыстрее, пока не нагрянули домашние Бученкова.
– Тебе кто-то звонил, – сообщил Андрюха. – Несколько раз.
– Кто?
– Не знаю. Мужской голос. Каждый день звонит.
– Кому это я нужен? – Я пожал плечами, гадать не стал.
Если это Еремеев, муж Гальки, – пожалуйста, я готов объясниться. Хотя, в общем, я могу уехать с Галькой и не давая ему объяснений. Это уж как получится. Мы ведь степняки. Мы такие – как будет, так и будет.
Как раз пришла теща – она была в магазине.
– Здрасьте, – сказал я.
– Здравствуйте.
Вернулась с гулянья и жена Андрея. С дитем. Коляска с грохотом осталась в коридоре.
– Здрасьте, – сказал я.
– Здравствуйте.
Она стала распеленывать дите, бросая на меня косые взгляды, – дескать, буду грудью кормить. Я спешно налил себе чаю. Сахар нашелся сам собой, в шкафу, в сахарнице. Спрятан не был.
– Извините. Я жду важного звонка, – сказал я, прихватил с собой стакан с чаем и хлеб – и зашлепал в коридор, где телефон.
И тут позвонили – я чуть не подавился глотком.
– Алло?
Это был не Еремеев, не Галькин муж. Это был всего лишь Сынуля.
– А-а, – сказал я. – Привет.
– Ты… ты… ты…
Он задыхался от злости.
– Родной мой, – спросил я, – что с тобой?
– Эти вещи… Сволочь… Вещи, которые…
Он ругался и плевался. Он крыл меня от и до. А ведь так нельзя. Это ж не телефонный разговор.
Я сказал:
– Если ты насчет шкафа и кухонных колонок – я верну, не трясись… Тебе их купить? Хоть завтра. Чего ты раскипятился?
– Я?.. Раскипятился?!
– Ну да.
– Сволочь! Свинья!.. А откуда взялась эта орда? Откуда?.. Эти… Эти…
– Разве они не люди?
И тут он прямо-таки зашипел. Змей Горыныч. Змея подколодная. Я даже покрутил и повертел в руках телефонную трубку – думал, что искажается звук, потому что шипенье было попросту нечеловеческое. Отбои. Из трубки посыпались короткие гудки. И несло злостью, которую он туда надышал за эти минуты.
* * *
Поразмыслив, я решил все-таки заглянуть в эту миленькую однокомнатную квартирку. Дело в том, что я сдал ее цыганам. Так что я немного беспокоился. Если уж по-честному.
Простившись с Бученковым, я помчался туда, прибыл и уже на лестничной клетке почуял что-то неладное. Дверь была приоткрыта. И сама собой ходила от ветерка. Туда-сюда.
– Добрый день, – сказал я, когда вошел.
Вошел – и на минуту потерял способность соображать. Квартира была пуста. Абсолютно пуста. Как пещера.
Посреди этой пустоты у окна стоял молодой человек, сокрушенный скорбью. Я его узнал.
– Валя, – сказал я ему, – как же так?
Валя молчал.
Все началось на Курском. Я там разговорился с пареньком; звали его Валентином, и он был цыганом. Он был оседлый. Паренек как паренек. Жил в Москве. Работал электриком.
– А это мои земляки приехали. – Он показал мне на кучку цыган в углу вокзала. Там пестрели платки и поблескивали серьги. Цыгане были очень живописны. Издали были как клумба. – Земляки, – сказал он озабоченно.
– В чем же дело? – спросил я.
– Им надо хотя бы два-три месяца пожить в Москве. Но никто не сдает комнату. Хотя они готовы заплатить больше обычного. Деньги у них имеются.
– А чего они хотят, Валя?
– Приглядеться. И, может быть, работу найти.
– И никто не сдает им комнату?
– Никто.
– Бедолаги, – вздохнул я.
– Они очень милые люди, очень работящие. Я ведь каждого из них знал в детстве. О каждом могу рассказать тысячу подробностей…
Но я его остановил. Из тысячи подробностей меня в основном интересовала одна: платят ли они деньги вперед? Нет, аванс меня не устраивает. Деньги вперед. Только так… И вот они обступили меня. Суть дела милые и работящие люди поняли не сразу, потому что некоторые стали кричать: «Погадаю, погадаю!» У меня рябило в глазах. Один из них, видимо старший, прикрикнул: «Тише!» Они выпустили еще немного пару и наконец угомонились. Мы стали договариваться. В углу вокзала напротив «Союзпечати» – там все и обговорили.
– Валя, – тихо спросил я теперь, – почему так пусто, они решили провести дезинфекцию?
В опустевшей квартире было гулко, как в раковине.
– Они обманули меня, – сказал Валя. – Они обещали жить оседло.
Он был сражен горем. Лет двадцати от роду. Симпатичный. К ударам еще не привык. В техникуме, как он сам говорил, его все любили.
– Ну что ты, Валя, – сказал я спокойно, – они не обманули. Они действительно собирались жить оседло. Но не совладали с инстинктом.
– Ты так думаешь? Или утешаешь? – В его голосе сквозь боль послышалась надежда.
– Конечно, не совладали. Им не хватило волевого усилия.
– Мне совестно, я ведь клялся тебе, что уверен в них…
– Пустяки.
Я походил по квартире туда-сюда. Кроме меня и Вали, больше никого и ничего не было. Ни предмета. Даже лампочки были вывернуты.
– Хорошо, что здесь паркет поганый и старый.
– Да, могли забрать, – откликнулся молодой цыган. – Я тоже об этом подумал.
– Пошли. Чего грустить.
– Мне перед тобой совестно.
– Перестань.
Он отдал мне ключи.
– Я бегал. Я искал им работу. Я им три места нашел.
– Пошли, – сказал я, – у них просто-напросто сработали инстинкты.
– Да, – вздохнул он. – Был у меня дружок. Работал в кондитерской – был ударником труда. И даже вымпел повесили в его отделе.
– И удрал?
– Удрал. Увидел коней по телевизору. И исчез. Сейчас в кино стали замечательно коней снимать.
– Пошли.
Перед уходом я заглянул в туалет. Здесь тоже ждал сюрпризец: не было унитаза. Беленького, фаянсового, с прожилочками. Дефицит, ничего не попишешь. Вместо унитаза зияла дыра с клокочущей там водой.
– Валя! – крикнул я. – А ведь бачок они не забрали!
– Знаю, – откликнулся он. – Но ты дергай цепочку осторожнее. И сразу же отойди. Брызги сильные.
* * *
В этот же день я лишился халата. Он был такой белый, такой чистый – я только-только его постирал. Его сдернули с меня прямо в дверях больницы. Сдернули, а меня развернули и вытолкнули. Пинка не было – и на том спасибо.
А больничная старушка, что носит передачи, ангельским голоском пела:
– Он не только, милые, сам пробирается. Он, милые, и других проводит.
Я обошел здание кругом и полез по пожарной лестнице. В комнатке для нянечек, в так называемой «бытовке», иногда покуривали больные – при этом открывали окно. Мне в таком случае только дотянуться ногой до подоконника. И я там.
Наверху – высота третьего этажа – оказался довольно сильный ветер. Руки замерзли, и я думал, как бы не грохнуться. Окно все не открывалось. Я висел на лестнице, ждал и думал о Гальке. Слабенькая она. Ну хорошо, для начала отлежится у Бученковых, но ведь впереди какая дорога…
– Эй! – заорал я. – Эй! Друг!
Кто-то наконец пришел покурить, и я тут же ему заорал:
– Эй! Открой окно!
Он открыл.
– Чего тебе?
– Посторонись-ка. Прыгать буду.
Я качнулся телом – и был уже там.
– Спасибо.
– Холод-дно, – затрясся он, закрывая окно.
– А мне там было не холодно? Только о себе думаешь, – сурово сказал я и, выглянув в коридор, добавил: – Некоторое время будем сидеть тихо. С закрытой дверью. Потому что там медсестра бродит.
В этот раз я услышал, как Галька смеялась. Смех у нее стал тоньше и счастливее. Я трижды проходил мимо палаты. Увидеть ее мне не удалось.
* * *
Я решил выпить кофе, съесть булочку. Зины за прилавком не было. Кофе я выпил, а булка не лезла в рот. Я домучил половину, а вторую половину сунул в портфель. Я, помню, удивился: как это необычно – не смог доесть.
– Где Зина? – поинтересовался я. – Сегодня она не вышла?
– Какая Зина?
– Ваш продавец.
– У нас Таня есть, Маша есть… А Зины нет.
– Но я же точно знаю.
– Да ведь и я точно знаю. – Она улыбалась из-за прилавка и смотрела мне в глаза ясней ясного.
Тут я огляделся – ну да, не в ту степь. Ошибка. Не то кафе, не тот прилавок. И тут же я понял, что со мной что-то творится. Звон в ушах. Это что-то новенькое. Заболел… Ответственность изнутри. Совесть – она, и только она спасет мир, – и я почувствовал, что эту важную мысль мне надо обязательно и сейчас же додумать.
На улице меня вдруг кто-то окрикнул. Кто-то очень знакомый.
– Что? – оглянулся я, а никого вокруг не было.
Я машинально топал по заснеженному тротуару. За каким-то троллейбусом. И по дороге к Зине. Эту дорогу я держал в голове изо всех сил.
– Привет, – сказал знакомый старшина.
– Привет.
– В вытрезвитель захотел?
– Ни в коем случае.
Он засмеялся и погрозил пальцем… Я уже знал, что болен, и знал, что меня шатает. Но я очень хотел додумать мою мысль. Ту мысль. Если совесть – это религия одиночки, то почему она не может быть религией всех? И тут я почувствовал, что совесть совестью, а фонарь вдруг пошел влево. Сам собой.
– Привет, – сказал я фонарю.
А он смотрел на меня все время сверху. С какой-то немыслимой верхотуры. И тогда я понял, что лежу под фонарем, и, значит, в случае крайней необходимости я буду хвататься руками за этот самый фонарь – и встану на ноги.
Я подумал, что Гальке все-таки очень тяжело. И миру очень тяжело. Потому что личность, в сущности, сама себе надломила хребет. Выскочки есть, а личностей нет. Выскочки не оправдывают надежд, и всех нас за это пожалеть можно… Снег жег мне щеку. Левую. Я слышал какие-то голоса. Потом повернулся набок и поджал ноги. Теперь снежинки таяли на правой щеке. Шел снег.
* * *
Зина подняла меня – и дала мне по шее. Я хотел объяснить, но тут она еще раз меня треснула. Потому что приводила меня в чувство. А может быть, думала, что я пьян.
– Стой же ты!
Она приволокла меня в комнату. Ноги у меня подкашивались. Я норовил упасть то вправо, то влево. Все равно куда. Кажется, она меня раздевала. Так и есть – стаскивала с меня брюки.
– Но подожди, – сказал я. – Мы же еще не расписаны.
Она опять треснула меня и сказала, чтоб я бросил свои шуточки.
– Стой прямо. Долдон.
– Стою.
– Господи. А рубашка какая. Ты в чем ее стирал?
– Не помню… Зина, я ведь пришел спасти мир. Я тебе говорил это?
– Говорил.
– Зина.
– Чего тебе?
– Зина, я спасу мир.
– Знаю. Знаю.
– Я пришел, чтобы его спасти. Я люблю Гальку – и через эту любовь я спасу вас всех.
– Тише ты. Спят люди. Ночь уже.
– Зина, ночи не будет…
– Знаю – будет вечная музыка. Ты это уже говорил. Подымай ногу. Да стой же, не падай.
Она раздела меня сначала до трусов. И, кажется, вела меня в ванную.
– Только тише. Да подымай же ноги – не шаркай. Если соседи…
– Надо спасать мир, Зина.
– Сейчас спасем.
И она погрузила меня в горячую ванну. Не вода, а блаженство. Я тут же постарался уснуть. Чувствовал себя великолепно, как и должен себя чувствовать бродяжка. После снега под уличным фонарем мне было хорошо, как никогда. А она стояла рядом. Чтоб я не захлебнулся.
Она растерла меня от ушей и до ног. И затолкала в постель. И еще навалила на меня что-то тяжелое и непереносимое, вроде перины. Я думал, что на меня въехал танк. Я начал хватать ртом воздух и замахал руками.
– Лежи! – грозно прикрикнула она.
И тогда я уснул. Я подергался, пометался и вдруг уснул.
Болел я неделю. Дней девять. Я просыпался и каждый раз видел эту самую комнату. Теперь я ее разглядел – типичная комнатушка. Коммунальная нора. Без претензий и с колченогим столом посередке. И кровать с никелированными шарами на спинке. Шары смотрели, как пара глаз большого неласкового насекомого. Выпуклые и выдвинутые вперед.
Когда кто-то из них, из женщин, спал на полу (я болел, я спал на кровати), стулья играли в чехарду. Ставились стул на стул. До потолка. Чтоб освободить жизненное пространство. А утром эти стулья так и стояли – стояли подолгу, как задумавшаяся или задремавшая башня. Пока их не расставляли по местам.
Теперь я частенько видел подругу Зины. То бишь хозяйку этой комнаты… А как-то однажды они спали на полу обе сразу. Голова к голове.
– Ого, сколько нас сегодня! – И тут же я захрипел: – Пить, пить!
Мне казалось, что глотка у меня из затвердевшего крахмала. Я боялся, что она лопнет, и хрипел очень тихо.
– Оживел, – засмеялась подруга Зины.
Звали ее Нелей. Она была громадная, и Зина рядом с ней лежала как кубик.
– Пить…
– А руку протяни. Чашка рядом.
Я схватил чашку с холодноватым сладким чаем – выпил одним духом.
– Пить…
– Сейчас. – Она встала, она была в комбинации. – Сейчас. – Она принесла воды. – Ого. Время-то семь часов. Зинка, эй! – Она несильно толкнула ее мыском ноги. – Зинк, а ведь работать кому-то пора!
* * *
В другой раз, рано проснувшись, я видел, как они отправляли посылки. Мужьям. Они взвешивали на безмене круги колбасы (там принимался определенный вес), укладывали эту колбасу, как укладывают веревку, а по углам ящика рассовывали носки и варежки. Укладывалась также махорка в пачках. И сухари. Зина мокрой ладонью шлепала по фанерной крышке. И тут же, по мокрому, химическим карандашом выводила адрес.
Я кинулся в больницу. Я был еще ватный, а ноги выделывали кренделя. Иногда бросало в сторону – шага на два или на три.
– Прошу прощения, – говорил я тому, на кого налетал.
И опять говорил. Следующему:
– Прошу прощения.
За эти дни здорово насыпало снегу. Природа не дремала, пока я валялся. Когда меня уносило с тротуара в сторону, мне приходилось топтаться по колено в снегу. Но я уже знал, что не упаду. Я был здоров.
Я вошел в вестибюль. Там было полно народу.
– Снят карантин? – спросил я.
– Нет. И не думают.
Я протолкался к температурному листу. Я замерз и дул себе на пальцы. При этом исподлобья глядел вверх, а там сбоку на листе против фамилии Гальки значилось: «Выписана». У меня хватило мозгов отыскать и посмотреть число.
Два дня назад.
Не помню, как я выбрался из людского столпотворения, – я уже мчался к ней.
* * *
Вот именно. Какой бы день из тех давних дней он ни вспомнил, он так и слышит прозрачную ясность звучания – Я МЧАЛСЯ. Никаких сомнений или отслоений в интонации. Никаких колебаний. Я БЕЖАЛ. Я ЛЮБИЛ. Все четко и ясно.
Прошло несколько лет. Олег повзрослел, он уже – Олег Нестерович. И, как и положено повзрослевшим, Олег Нестерович научился не толкать локтями людей там и сям. Научился понимать и чужих тещ, и своих родственников. Это пришло само, потому что рано или поздно оно приходит. Но исчез задор. Исчезла ясность и четкость голоса. Исчезло нечто.
И вот однажды, как и каждому, ему говорят:
– Ты очень, Олег, переменился. Ты ведь был совсем не такой.
И он отвечает. Оно как-то само собой ответилось:
– Что же тут удивительного – тогда я был молод. На первом дыхании был.
И с этой минуты речевой оборот и сама интонация – случайные, в общем, – берутся им на вооружение.
– Раньше ты, Олег, не колебался и не рефлексировал. Не раздумывал так долго…
– Раньше? – улыбается он. – Но это же понятно. Я был тогда на первом дыхании.
Или:
– Олег!.. Какой ты, ей-богу, стал медлительный и рассудочный!
– А возраст. Я же не на первом дыхании.
И так далее. На все или почти все случаи жизни. Этой фразой он пользуется и до сего дня – пришлась по вкусу.
Как-то выводили одного пьяного. Его выводили под белы руки, бережно с дружеской вечеринки, где он (приходится извиниться за неизящность оборота) облевал все, что было от него близко и что было далеко. Дело, разумеется, житейское. Бывает. И вот его сводили вниз, на воздух, чтобы ему немного полегчало. А он упирался и кричал:
– О моя молодость!.. О моя молодость!
Любопытно само выражение – именно так он кричал в минуту, когда ему было отвратно и скверно.
– Не ори! – сказал первый из сводивших его вниз.
– Пусть, – сказал второй по-доброму. – Пусть орет. Пусть только не блюет. Не человек, а нефтяная скважина.
– Ч-черт. На кого мы похожи, – сказал третий, отряхиваясь.
Такая вот бытовая картинка, мелкая и не очень оригинальная.
Олег Нестерович был один из них – из тех, кто сводил перепившего вниз, на свежий воздух. Уже через полгода Олег Нестерович напрочь забудет и эту компанию, и каким образом он в нее попал – он уже ничего или почти ничего не помнит. Ни тех, кто выводил. Ни кого выводили. Ни лиц, ни имен. И даже – шапка с перепившего все время падала или шляпа – не помнит. А выкрики помнит.
Он помнит, и иной раз ему въявь кажется, что это он сам кричит (хотя он вовсе не кричит, а, напротив, очень даже степенно и тихо идет из гастронома с полной авоськой). И он слышит свой собственный голос. А если очень подкатывает, он может повторять это вслух – повторять до бесконечности. И глотать ком, который все мы глотаем. О моя молодость. О моя молодость. И так далее. До бесконечности.
Это уже другое характерное его выражение. Столь же характерное, как и «на первом дыхании».
* * *
Еще штрих к портрету. Олег Нестерович при всей своей рассудительности немедленно вспыхивает и раздражается, если кто-то, пусть даже в шутку, бранит себя самого за «глупую молодость», за «потерянные годы» и тому подобное.
– Ты ничего не понимаешь в жизни! – И Олег Нестерович весь трясется от гнева.
И начинает втолковывать собеседнику, что ты, друг милый, НИКОГДА И НИКОМУ БОЛЬШЕ не говори, что в молодые годы ты был глуп и смешон. Это неправда. Говори так: был легковерен. Был искренен. Был смел. Был свободен. Был добр. Был на первом дыхании.