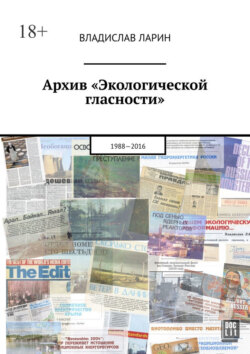Читать книгу Архив «Экологической гласности». 1988-2016 - Vladislav Larin - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter 2. Nuclear Legacy of the USSR
Is it easy to say «forbidden»?
ОглавлениеЖурнал Президиума АН СССР «Энергия: экономика, техника, экология», №8, август 1991 г.
Беседа состоялась в марте 1991 г., Москва.
Принято решение о выводе из Москвы, а точнее – о закрытии атомных реакторов в Институте атомной энергии (ИАЭ) им. И. В. Курчатора. Причем, если первоначально речь шла о прекращении работы самого мощного из них – реактора МР тепловой мощностью до 50 МВт лишь в 1996 году, то теперь сроки диктуются более жесткие. Все московские реакторы должны быть остановлены к 1996 году, а МР – уже в этом, 1991 году. Пока атомщики думают, как выполнять такое неожиданное для них решение, наш специальный корреспондент Владислав Ларин встретился с депутатом Моссовета, председателем подкомиссии по выводу из Москвы экологически опасных предприятий, кандидатом технических наук Леонидом Владимировичем Матвеевым.
– Леонид Владимирович, вы возглавляли экспертную комиссию, которая занималась проблемой остановки действующих в Москве атомных реакторов. Что это за группа, каких специалистов она включала?
– Наша комиссия состояла не только из депутатов, она объединяла представителей всех заинтересованных служб и ведомств. Я сам 15 лет проработал в НИИ неорганических материалов, который, в частности, занимается переработкой радиоактивных отходов и проблемами, связанными с топливным циклом.
– Давайте подробнее остановимся на работе той комиссии, которая занималась московскими реакторами. Как она появилась?
– Идея создания комиссии по ядерным реакторам появилась в связи с многочисленными обращениями людей, проживающими неподалеку от ИАЭ, МИФИ (Московский инженерно-физический институт) и НИКИЭТ (Научно-исследовательский и конструкторский институт энергетической техники) – трёх основных московских организаций-обладателей реакторов. Во время выборной компании в Моссовет давались соответствующие наказы избирателей своим кандидатам в депутаты. Было ясно, что экологическая комиссия Моссовета не может остаться в стороне от решения этой проблемы.
Комиссия была создана летом 1990 года. Первым делом запросили ИАЭ, МИФИ и НИКИЭТ относительно планов использования реакторов. Планов их остановки в институте не было, поэтому нам пришлось создать экспертную комиссию. Она начала свою работу в сентябре 1990 года. Причем в названии комиссии, созданной Моссоветом, сразу содержалась программа действий. Она называлась «О выводе ядерных реакторов за пределы Москвы».
Одновременно с работой экспертов в эти организации были разосланы письма, в которых предлагалось представить в экологическую комиссию Моссовета программу остановки и ликвидации реакторов.
– Интересно, какова была реакция?
– Ну, например, ИАЭ согласился представить такую программу. Правда, на её разработку попросил у Моссовета 120 млн. руб. Как будто это Моссовет финансировал создание реакторов в Москве. А уж в ходе исследования, как нам сообщили, будет установлена сумма, необходимая для полного демонтажа и ликвидации реакторов. Очевидно, что она окажется на много порядков больше.
Разумеется, работа была не лёгкой. Для начала запросили всех возможных пользователей и выяснили, что в настоящее время в трёх названных институтах существует девять действующих реакторов. В других организациях, как нам ответили, действующих установок нет.
Какие же реакторы «открыл» ИАЭ? Их оказалось семь – могу назвать: МР – материаловедческий реактор, ИР-8, ГАММА, АРГУС, ГИДРА, Ф-1, ОР. Вот, пожалуй, и всё.
– С какими трудностями сталкивалась комиссия?
– Наша комиссия была слишком разнородной, чтобы можно было рассчитывать на достижение какого-то единодушного всеми принятого варианта. Скажем, как мог один из руководителей ИАЭ Е. Рязанцев подписать решение относительно закрытия реакторов? Разумеется, он имел собственное мнение на этот счет. Но, с другой стороны, никаких искусственных затруднений со стороны «ядерных» институтов не было. Все необходимые материалы нам предоставлялись сразу, так что сознательного противодействия не было.
– Насколько обязательно ваше решение для хозяев реакторов
– Мы сами таких требований предъявлять не можем. Поэтому нам остается просить Совмин о прекращении деятельности реакторов. Правда, сейчас не очень понятно, в чьей компетенции находится принятие таких решений. Поэтому, чтобы среди руководителей не было обид, мы обратились с такой просьбой к обоим правительствам – Союзному и Российскому. Кто из них будет принимать решения – посмотрим.
Кроме того, нами было принято решение обратиться к правительству с просьбой о приостановке эксплуатации реактора ИР-8 до приведения его в соответствие с действующими правилами безопасности. Дело в том, что тройственная комиссия Госкоматомнадзора, Минатомэнерго и АН СССР, которая работала в ИАЭ примерно за год до нас, написала целый том замечаний о работе реакторов. В том числе – и по реактору ИР-8.
Опять же, оказалось невыполненным распоряжение Совмина относительно того, что владельцы атомных реакторов должны предоставлять информацию о последствиях «запроектных» аварий на своих объектах. Ведь и население, и штаб гражданской обороны должны знать, что им делать в случае сигнала «радиационная опасность». Да и персонал должен твердо знать свои обязанности в такой ситуации. Чтобы не случилось, как в Чернобыле.
Такое постановление было принято, но оно не выполнено до сих пор, поскольку есть один нюанс. Дело в том, что часть реакторов – в том числе МР и ИР-8 недоступны для контроля Госкоматомнадзора. Они подчиняются на прямую Минатомэнергопрому – бывшему Минсредмашу, который сам и эксплуатирует, и контролирует реакторы. Типичный ведомственный самоконтроль, многократно всеми осужденный.
– А что с остальными реакторами?
– Срок эксплуатации реактора ГАММА мы утвердили до 1993 года, как это намечали в ИАЭ. Во-первых, это реактор малой мощности. Во-вторых, 1993 год – это не тот срок, ради которого стоит ломать копья. И самое главное – мы предложили руководству Минатомэнергопрома в 1991 году разработать и передать в Моссовет технико-экономическое обоснование снятия с эксплуатации реакторов МР, ИР-8 и ГАММА.
Дело в том, что остановка реактора – это только начало всех проблем. Нужно извлечь и отправить на переработку тепловыделяющие элементы, разобрать сам реактор, рекультивировать территорию до «зеленой лужайки». Причем неясно – кто сможет принять отработанное топливо, куда девать прочие «грязные» (радиоактивные) отходы. И главное – где взять деньги на все работы?
Следующий пункт решения Моссовета – принять предложение руководства ИАЭ о прекращении эксплуатации реакторов ГИДРА, АРГУС, ОР и Ф-1 по мере завершения программы исследований и выработки ресурса оборудования. В 1991 году должен быть предоставлен согласованный с органами госнадзора план снятия их с эксплуатации. Пусть сперва будет подготовлено не ТЭО (технико-экономическое обоснование), а лишь план, но сроки остановки реакторов должны быть известны. На первых порах нас это устроит. А затем, но не позже, чем за пять лет до остановки реактора, должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование. Как это полагается по существующим законам.
– Пока речь идет о реакторах ИАЭ. А что можно сказать о других существующих объектах?
– Мы предложили в этом году представить ТЭО снятия с эксплуатации реактора в МИФИ. А саму остановку наметили на 1999 год – как того хотело руководство института.
Наверное, мы не будем возражать против того, чтобы реактор функционировал еще восемь лет. Мощность его относительно невелика – 2,5 МВт. Кроме того, он может пригодится в процессе подготовки будущих специалистов. Да и квалификацию эксплуатирующего его персонала нельзя сравнить с той, что была в Чернобыле. Кстати, в ИАЭ тоже персонал очень высокого класса.
Что касается реактора, расположенного в НИКИЭТ, то предложено снизить его мощность до 2,5 кВт. Тем более, что сами специалисты признают – больше им не нужно. А чем меньше мощность, тем меньше отходов. Таким образом его мощность снизится в 20 раз.
Кроме того, всем владельцам ядерных реакторов надлежит в первом полугодии 1991 года представить в штаб гражданской обороны Москвы информацию, обеспечивающую выполнение того самого постановления Совмина относительно «запроектных» аварий.
Надо сказать, что это лишь самый первый этап работы, на котором было четко выражено мнение Моссовета по проблемам ядерных реакторов. Разумеется, дело это большое, и двигать его будет трудно. Мы понимаем, что нас ожидает сопротивление – пусть и пассивное – во многих инстанциях. Мы к этому готовы.
– Была ли у вас какая-то информация о происходивших на московских реакторах авариях? Я имею в виду те аварии, от которых могло пострадать население.
– Нет, каких-то дополнительных сведений нам просто не давали. Но Третье главное управление Минздрава СССР, дававшее информацию, утверждает: ничего такого не было. Они и отвечают за свои слова, посылая нам документ на этот счет. Однако, что характерно, это не мешает данной организации положительно относиться к идее вывода реакторов за пределы города. Поскольку нет абсолютной гарантии невозможности возникновения «запроектной» аварии. Например, в результате диверсии.
Известно, что в ряде случаев персонал подвергался чрезмерным воздействиям, но в данном случае нас это не интересовало. Речь шла об опасности для населения. А персонал сам выбирал себе такой род занятий и получает за риск какую-то компенсацию.
– Как вы оцениваете степень опасности самого процесса снятия реактора с эксплуатации?
– У нас в стране практически нет опыта снятия реакторов с эксплуатации. Только-только делаются первые шаги. Так что последствия пока непредсказуемы.
– Комиссия, занимавшаяся проблемой остановки московских реакторов, завершила свою работу. Ей на смену пришла комиссия по радиационной безопасности Москвы. Что она собой представляет?
– Постоянная комиссия по экологии объединяет несколько экспертных групп, и одна из них – по проблеме радиационной безопасности. А та, в свою очередь, включает представителей санэпидстанции, НПО «Радон», занимающегося утилизацией радиоактивных отходов, Института биофизики, ИАЭ, Госкомприроды, Третьего главного управления Минздрава СССР – короче, всех, кто разбирается в обсуждаемой проблеме.
Задача этих групп заключается в подготовке тех решений, которые затем должны быть вынесены на обсуждение в экологической комиссии Моссовета. А в случае одобрения – на заседание президиума Моссовета.