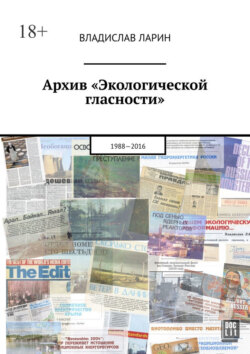Читать книгу Архив «Экологической гласности». 1988-2016 - Vladislav Larin - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter 2. Nuclear Legacy of the USSR
Under the shadow of nuclear reactors
ОглавлениеЖурнал Президиума АН СССР «Энергия: экономика, техника, экология», №6, июнь 1991 г.
Беседа состоялась в январе 1991 г., Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова, Москва.
Авторский текст Владислава Ларина.
Жизнь многих из нас проходит в соседстве с ядерными реакторами. Это реакторы атомных электростанций, исследовательские реакторы научных центров и так называемые «промышленные» реакторы – наработчики ядерных материалов и радиоактивных изотопов. Но, как известно, жить спокойнее, если соседей знаешь в лицо. «Соседи» москвичей – реакторы Института атомной энергии (ИАЭ) им. И. В. Курчатова. Кое-что о них москвичи знают, но реакторщики Курчатовского института готовы расширять диалог, обсуждать свои проблемы, ошибки, упущения, а главное – экологические проблемы атомной отрасли.
Об этом шла речь в беседе нашего корреспондента И. И. Белова (псевдоним Ивана Ивановича Ларина) с двумя ведущими сотрудниками ИАЭ им. И. В. Курчатова – начальником отдела охраны природы, кандидатом технических наук Г. В. Шишкиным и начальником лаборатории радиационной дозиметрии и радиометрии отделения ядерных реакторов, доктором физико-математических наук Ю. В. Сивинцевым.
Эта встреча была вызвана статьей «Ядерное общество без секретов?» (приведена в разделе «Мирный атом») в октябрьском номере за 1990 год нашего журнала «Энергия: экономика, техника, экология». Курчатовцы сочли, что к ней необходимы дополнения и уточнения.
Напомним, что эта самая «ядерная сень» представляет собой десяток реакторов исследовательского назначения, расположенных на территории Курчатовского института в районе Покровского-Стрешнева. Самый большой из них – материаловедческий реактор МР тепловой мощностью до 50 МВт. Несколько реакторов меньшей мощности – десятки или сотни киловатт. Есть ещё так называемые «критические сборки» – реакторы мощностью в несколько сотен ватт, назначение которых, главным образом, моделирование активных зон вновь создаваемых реакторов. Но «головной болью» руководства Института, с точки зрения экологии, является материаловедческий реактор. Он не только самый мощный, но и самый старый. Если не считать Ф-1 – самый первый советский реактор, запущенный еще в 1943 году, мощностью, образно говоря, в 30 электрических утюгов.
В беседе главным образом шла речь о надежности действующих реакторов, об их радиационной безопасности. Г. В. Шишкин высказал серьезную заинтересованность специалистов ИАЭ в том, чтобы довести до сведения жителей столицы полную информацию о реакторных установках института, о мероприятиях, обеспечивающих их безаварийную работу, о факторах их воздействия на окружающую среду – чтобы исключить повод для слухов и кривотолков.
Ю. В. Сивинцев добавил к этому соображения общего порядка. По его мнению, после Чернобыля пресса шарахнулась из одной крайности – сочинения хвалебных од в адрес советской науки и техники – в другую. Дескать, у нас все плохо, нас во всём обманывают, атомщикам нет дела до интересов народа. Зло стали видеть даже там, где его нет. Одну из многих опасностей превратили в единственную, что мешает принимать меры для разработки стратегии защиты окружающей среды от других вредных факторов, нередко более опасных.
Увеличение числа связанных с Чернобылем онкологических и генетических заболеваний ученые оценивают максимально в 0,4%. Но почему нас не тревожит такой угрожающий факт: еще до чернобыльской катастрофы число новорожденных с аномалиями, в том числе генетическими, в стране достигло 10—13%?
Чернобыльская катастрофа стала национальной трагедией в значительной степени потому, что пала на нищую страну, на народ, физически и социально ослабленный условиями жизни. Сейчас о положении с питанием населения красноречиво говорят пустые прилавки магазинов. Но ведь и в годы, предшествовавшие Чернобылю, норма питания населения Украины едва достигала 75% от необходимого, а по витаминам и того хуже – около 50% нормы.
О качестве медицинского обслуживания говорит такая цифра: у 80% умерших в сельской местности не проводится вскрытие, причина смерти устанавливается сельским фельдшером «на глаз». После Чернобыля для населения пострадавших районов было организовано более обстоятельное обследование, с применением современной диагностической аппаратуры, и у людей выявлено множество заболеваний. Велик соблазн для многих официальных органов, включая местные власти Украины и Белоруссии, все болезни отнести на счет Чернобыля, камуфлируя этим свою многолетнюю бездеятельность, включая период 1986- 1990 гг.
Ведь до сих пор, продолжал Ю. В. Сивинцев, не отселены многие из тех населенных пунктов, дальнейшее пребывание в которых обусловит дозу облучения жителей более 35 бэр за 70 лет. Национальная комиссия по радиационной защите вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС указала потенциально опасные места за пределами тридцатикилометровой зоны, но местные власти бездействуют до сих пор.
Миновав соблазн рассуждать только на тему недавней радиационной катастрофы, географически не связанной со столичными проблемами, разговор вернулся к московским реакторам. Известно, что побочными продуктами работы ядерного реактора является обширный «букет» газообразных, аэрозольных и жидких радиоактивных отходов, а также радиоактивные материалы топливных стержней и элементов конструкции. Газовые и аэрозольные отходы, пройдя сквозь систему фильтров, выбрасываются через вентиляционные трубы в атмосферу. Жидкие радиоактивные отходы, также после фильтрации, по линии специальной канализации поступают на Щукинскую очистительную станцию (расположенную на берегу Москвы-реки напротив Серебряного Бора), а затем их сбрасывают в Москву-реку. Твердые отходы, в частности очень высокоактивные отработавшие тепловыделяющие элементы, собираются в специальных хранилищах на территории ИАЭ.
Хорошевский район Москвы «самый реакторный». Может быть, он и самый неблагополучный в радиационном отношении? Нет – говорят собеседники. На карте радиационной обстановки Москвы, созданной на основании автомобильной и пешеходной съемки НПО «Радон», Хорошевский район и даже территория Курчатовского института выглядят благополучнее многих других районов. Как так?
Дело в том, что в довоенные годы (до 1941 г.) – в начальный период практического использования источников ионизирующего излучения прежде всего в медицинских целях для лечения онкологических больных, эти самые радиоактивные «источники», когда они становились ненужными, пользователи вывозили за город. И в соответствии с действовавшими тогда правилами, закапывали в каком-нибудь овраге на глубину нескольких метров. Город разрастался, пустыри становились жилыми кварталами, некоторые овраги – карьерами строительных материалов. Захороненные источники разрушались, и радиоактивность разносилась и развозилась по Москве. Сейчас, спустя много лет, невозможно установить кем, сколько и каких типов источников излучения было изготовлено, кто с ними работал и где их «погребли».
Даже в банке данных о радионуклидных источниках, создаваемом НПО «Радон», нет данных о предприятиях и институтах бывшего Минсредмаша, в том числе – ИАЭ. Секретно! А всесоюзная фирма «Изотоп», что на Ленинском проспекте, поставляет источники излучения многим потребителям, причем их судьбу после использования определяют сами потребители.
В Курчатовском институте много лет назад, после «успешной» попытки одного сотрудника унести домой довольно мощный источник излучения, все проходные оборудовали приборами с сигнализацией, исключающие подобные «шуточки». У ряда организаций такого дозиметрического контроля нет и по сей день.
Основными источниками ионизирующего излучения самого реактора являются отработавшие тепловыделяющие элементы (ТВЭлы) и детали конструкций. Отработавшие ТВЭлы выгружают из активной зоны реактора, вначале их выдерживают в специальных хранилищах для распада короткоживущих радионуклидов – изотопов ксенона, йода и т. д. Происходит это прямо на территории ИАЭ. По-хорошему, после выдержки в течение нескольких лет ТВЭлы специальным транспортом надо отправлять на радиохимические заводы для переработки. Но транспортировка и переработка – процесс дорогой и экологически опасный. Поэтому основная масса отработавших ТВЭлов «отлеживается» в хранилищах при реакторах (в так называемых «приреакторных бассейнах»).
ТВЭлы являются носителями очень большой, но достаточно просто локализуемой радиоактивности. Иное дело отходы жидкие и газообразные, которые сложно улавливать и негде хранить. Поэтому обычным делом является их выброс после очистки в окружающую среду – соответственно в Москву-реку и в атмосферу города. Технологический дозиметрический контроль осуществляется эксплуатационными службами. Внешний, независимый контроль проводят органы Минздрава СССР, а с недавних пор – Госкомприроды.
По словам Г. В. Шишкина, количественно картина аэрозольных выбросов выглядит следующим образом. За последние 5 лет среднегодовой выброс по инертным радиоактивным газам составил 6.150 Ки, по долгоживущим радионуклидам в аэрозольной форме – 0,05 Ки, по радиоактивному йоду 0,04 Ки. Это намного ниже допустимых величин и приводит к дополнительной дозе облучения населения прилегающего района всего лишь в 0,1 мР в год, что составляет одну тысячную долю от естественного фона. Конечно, такую дозу невозможно заметить на фоне глобальных эффектов. Определяется она только расчетным путем.
Концентрация радионуклидов в воздухе промплощадки ИАЭ находится в пределах от 3 до 9 х 10—18 Ки/л, а плотность выпадений из атмосферы от 1 до 5 х 10—11 Ки/кв. м в сутки. Эти цифры соответствуют аналогичным по другим районам Москвы.
Радиационный фон вблизи ИАЭ такой же, как и в других районах Москвы – как правило, от 9 до 12 мкР/ч. То же можно сказать об активности грунтов и поверхностных вод. Москва-река, протекающая вблизи ИАЭ, содержит одинаковую концентрацию радионуклидов выше и ниже по течению относительно устья впадающего в неё Соболевского ручья, по которому сбрасываются очищеные стоки ИАЭ. Уровни концентраций, как правило, находятся в пределах от 0,5 до 2,5 х 10—11 Ки/л. Точечные загрязнения, встречающиеся в зоне ИАЭ, как и в других районах Москвы, не связаны ни со сбросами, ни с выбросами от реакторных установок. Они объясняются халатностью или злоумышлением отдельных лиц. Естественно, что при обнаружении подобные «пятна» устраняются.
Для контроля за радиоактивной пылью на территории ИАЭ установлены специальные планшеты, на которых накапливаются атмосферные осадки. Осевшие частицы измеряют на предмет радиоактивности. По утверждению наших собеседников, повышенная радиоактивность аэрозолей наблюдалась только в те годы, когда в СССР и в мире проводились атмосферные испытания ядерного оружия. Как правило, через некоторое время после взрыва часть радиоактивности, разносимая ветром, достигала Москвы. Радиоактивный фон атмосферы в те годы существенно возрастал. О радиоэкологических последствиях атмосферных испытаний ядерного оружия ученые спорят до сих пор.
И как тут не вспомнить добрым словом Международный московский договор о запрещении испытания атомного оружия в трех средах – атмосфере, воде и в космосе. В результате этого радиоактивный фон атмосферы Земли снизился практически до естественного уровня.
А как быть с возможностью «выстрела незаряженного ружья»? У реактора причин «стрельнуть» немало: нервный срыв у оператора, ошибка или глупость в действиях персонала, диверсия, авиационная катастрофа и т. д. И что тогда? За забором девятимиллионный город… Ответ был сформулирован так: миниреакторы («критические сборки») опасны только для самих экспериментаторов, находящихся рядом. За свои ошибки они платили не только здоровьем, но и жизнями. Это было. На население, живущее рядом, эти аварии влияния не оказывали. Реакторы большей мощности, конечно, содержат большой запас радиоактивности и, как говорится, «упаси бог». Но реакторщики, естественно, уповают не только на бога… Для каждого реактора имеется документ, именуемый «Техническое обоснование безопасности» (ТОБ), в котором рассматриваются не только все возможные, но и самые невероятные «запроектированные» аварии и их последствия. Рассматриваются также технические и организационные мероприятия по локализации и ликвидации последствий возможной аварии. На реакторах регулярно проводятся учения на случай аварии с имитацией действий персонала. Реакторы экспертировали разные комиссии, в том числе из МАГАТЭ, которые в общем не имели серьезных претензий.
Вроде бы, можно спать спокойно, но что-то мешает. Видимо, «синдром Руста». Помните? Славные военно-воздушные силы, успешные учения противовоздушной обороны и чужой самолет, беспрепятственно преодолевший все рубежи охраны и приземлившийся на Красной площади. Чернобыль Советской армии! Видимо, поэтому в ИАЭ им. И. В. Курчатова утвержден план вывода реакторов из эксплуатации Первым предполагается остановить самый мощный материаловедческий реактор. Но когда – пока не решено.
Под конец беседы возник такой вопрос: вы – сотрудники ИАЭ, специалисты, уверены в надежности своих реакторов, располагаете информацией о радиационной обстановке, она вас не беспокоит. А что вы делаете, чтобы каждый житель района имел возможность сам в любой момент убедиться, что радиационная обстановка в микрорайоне нормальная?
Оказывается, такая возможность имеется. На некоторых зданиях Института, «вписанных» в его забор, с внешней стороны в 1990 году установлены табло с цифровой индикацией, показывающей радиационный фон. Датчиками являются счетчики Гейгера. Эти приборы – часть большой системы постоянного контроля и регистрации радиационной обстановки на территории ИАЭ.
Есть табло с зеленоватыми цифрами на административном здании института, рядом с «головой» – памятником И. В. Курчатову. Регистрируемый естественный фон составляет 9—12 мкР/ч. А над этим табло уже давно действуют электронные часы также с цифровой индикацией. Однажды электронные часы показывали 37 часов 89 минут. Понятно – качество нашей электроники… А если на табло пониже появится, например, цифра 120 мкР/ч? В случае с часами можно посмотреть на свои, а что делать в случае с радиометром? Г. В. Шишкин сказал, что в этом случае надо позвонить по телефону 196-96-22 дежурному по Институту и уточнить обстановку…