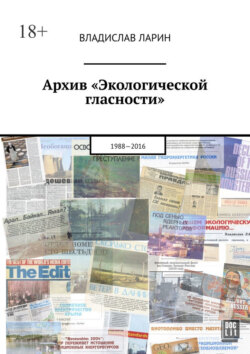Читать книгу Архив «Экологической гласности». 1988-2016 - Vladislav Larin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter 1. Arctic. Oil and Natural Gas
The oil and gas complex of Western Siberia is too expensive a treasure…
ОглавлениеВладислав Ларин
Материал написан в феврале 1991 г., Москва.
Не был опубликован, остался в архиве автора.
Публикуется впервые.
Впервые о нефти Западной Сибири заговорили в начале шестидесятых годов ХХ века. Тогда были обнаружены огромные её запасы, сосредоточенные, преимущественно, в Тюменской области. Именно эта находка, как считают эксперты, позволила приостановить задуманную А. Н. Косыгиным и Е. Г. Либерманом «перестройку» социализма. Найденная нефть позволила продлить агонию советского режима, поскольку значительная её часть отправлялась на экспорт, а взамен СССР достаточно просто получал нефтедоллары. За минувшие годы общая сумма поступлений в советскую казну от продажи сибирской нефти составила примерно 180 млрд. долл. Где эти деньги? На что они были потрачены?
Во-первых, они поддерживали социалистическую экономику. На эти деньги закупалось зерно, продовольствие, оборудование для тяжелой промышленности – в первую очередь, для нефтедобычи.
Во-вторых, именно нефтедоллары позволили Советскому Союзу 20 лет соперничать с США в гонке ракетно-ядерных вооружений. На эти деньги строились атомные подводные лодки и космические корабли, расширялись заводы ядерного военно-промышленного комплекса и совершенствовались средства доставки ядерных боезарядов на территорию «потенциального противника» – в США и Западную Европу.
В-третьих, на эти деньги «на Западе» закупался «ширпотреб», иначе называемый «товарами народного потребления», создававший в некоторых кругах советского общества ощущение изобилия и достатка. Иностранными товарами власть «подкармливала» некоторую часть народа, покупая тем самым его лояльность.
В-четвертых, власть не забывала о себе – на эти деньги благоденствовал и процветал партийно-хозяйственный аппарат страны. Только геологи и работавшие на нефтепромыслах люди не получали существенной выгоды от продажи добываемой ими нефти.
Как только мировые цены на нефть снизились – советская ресурсная модель социализма рассыпалась. Для этого понадобилось всего несколько лет.
С сибирским газом получилась сходная история. Советский природный газ считается экологически чистым видом топлива. Быть может, для потребителей в Западной Европе он таковым и является, поскольку все разрушения природы остаются на территории СССР. А разрушения велики. Дело в том, что все двадцать пять лет освоения сибирских недр люди жили там в походных условиях. Жилья не хватало, рабочие жили в неприспособленных помещениях – времянках: бараках и балках, напоминающих трубу на полозьях, в домах, плохо построенных на многолетней мерзлоте. Не хватало продовольствия, больниц, школ для детей. А когда люди живут в таких условиях, то думать о проблемах разрушения природы времени и сил просто не остается. Людям говорили: надо добывать больше нефти и газа, тогда можно будет построить жилье и прочие «объекты соцкультбыта». Хотя, казалось бы, зачем они нужны в условиях Заполярья, где создание и поддержание инфраструктуры требует огромных затрат сил и средств. В действительности вся экономическая политика была направлена на расширение производства – без мысли о том, что будет, когда углеводородное и минеральное сырье в этом регионе закончатся.
Проблемы копились, но не могли стать достоянием гласности – на страже интересов политической «элиты», паразитировавшей на ресурсах страны, стоял казавшийся всесильным КГБ. Начавшаяся «перестройка» позволила людям узнать то, что прежде от них скрывали. Оказалось, что жизнь на всей территории СССР трудна и скудна, а не только в твоем посёлке или городе. Экологических проблем накопилось так много, что они заполнили страницы печатных изданий.
Сами «капитаны» нефтяной отрасли отлично знали, как разрушается природа в местах добычи нефти и газа. Имевшиеся нормативные требования, призванные сохранять хрупкую северную природу, не соблюдались, поскольку были несовместимы с планами широкомасштабного «покорения природы».
В начале восьмидесятых годов стали появляться признаки того, что тюменская нефть может скоро иссякнуть. Именно к этому периоду относится введение грифа секретности для всех сведений относительно советских запасов нефти и газа. Тогда же началось активное освоение нефтегазовых месторождений Нового Уренгоя и Ямбурга. К этому времени относятся наиболее масштабные антропогенные изменения в природе Западной Сибири.
Советские методы освоения природы отличаются особенным варварством. Причиной этому служат особенности советской жизни: неразработанность природоохранного законодательства умноженная на традиционное пренебрежение к любым законам; отсутствие у освоителей Севера чувства хозяина – практически все «покорители природы» приезжали из других регионов и на Севере были временщиками, не планировавшими задерживаться надолго; нехватка техники и транспорта, полное отсутствие экологически безопасной техники пригодной для условий тундры и вечной мерзлоты; спешка при выполнении и перевыполнении любой ценой плановых заданий партии и правительства.
Следует учитывать психологию руководителей нефтегазового комплекса СССР, привыкших действовать в условиях, приближенных к военным. Также в формировании психологии этих людей играло свою роль ощущение важности и ответственности порученного дела. Поскольку нефть и газ давали значительную часть валютной выручки государства, всем необходимым для этого добывающая отрасль обеспечивалась в первую очередь – как на войне. Но и задания партии и правительства должны быть выполнены как приказы на войне – любой ценой.
В конце восьмидесятых годов ХХ века поступил приказ: к середине 1991 года начать промышленную добычу природного газа на полуострове Ямал. А затем, в сотрудничестве с западными фирмами, построить в Тюменской области пять крупных заводов для переработки нефти, газа и газового конденсата. Поскольку политико-экономическая система социализма, при отсутствии нефтедолларов, все явственнее разваливалась – Совет Министров СССР принял решение развивать собственные перерабатывающие мощности, чтобы при участии зарубежных компаний продавать за границу не сырьё, а полуфабрикаты. Но не успели – долго скрипевшая социалистическая система окончательно рухнула.
Правда, эти планы с самого начала были трудновыполнимы. Страна находилась в сильнейшем экономическом, экологическом и структурном кризисе. Валютные поступления неуклонно снижались. Основной закон советской экономики – план был составлен на всю пятилетку. Поэтому добыть «из воздуха» необходимые для освоения ямальского газа 40 млрд. рублей и ещё столько же – для строительства пяти нефтегазоперерабатывающих комбинатов в Тюменской области оказалось невозможно.
Именно в это время жители нефтяных регионов Западной Сибири впервые вслух заговорили о своих экологических и социальных проблемах. В первую очередь это было связано с появлением нового понятия «гласность», которая позволяла говорить вещи, совершенно невозможные ещё год назад. Если о прежних ошибках руководителей страны можно было только сожалеть, то остановить совершение новых казалось вполне реальным.
Совместная экспедиция советских и скандинавских экспертов, побывавшая летом 1989 г. на Ямале, установила: его природа изучена недостаточно. Это не позволяет прогнозировать возможные изменения природы и климата в результате освоения газовых месторождений.
Во-первых, полуостров частично состоит из льда, прикрытого сверху тонким слоем почвы. Согласно проекту, передавать газ потребителям предполагалось по зарытым в землю трубам. Это означало, что поднявшийся с глубины и разогретый до температуры +70 градусов природный газ пойдет по трубам, зарытым в вечную мерзлоту. Кроме того, практика советских строителей вообще не знала средств сохранения окружающей среды в процессе проведения любых строительных работ. Это означало, что на тысячи квадратных километров раскинется изуродованная, практически не способная восстановиться тундра. Становилось возможные повторение в северном варианте Аральской катастрофы, когда перестал бы существовать огромный природный объект – полуостров Ямал. Он просто мог растаять и добывать природный газ пришлось бы на шельфе, а береговая линия европейских стран в результате этого могла существенно измениться.
Во-вторых, не были разработаны и внедрены общепризнанные способы восстановления, рекультивации разрушенного почвенного покрова. Не было семян растений, подходящих для той климатической зоны, не было соответствующих удобрений, да и исследований в этой сфере проводилось крайне мало. А выделяемые на рекультивацию территории вокруг буровых вышек средства тратились на то, чтобы хоть как-то спрятать от глаз оставшийся после буровиков металлический хлам и озера бурового раствора – очень токсичного вещества, необходимого для бурения. Причем нередко вся рекультивация заключалась в том, что всё это сгребалось бульдозером в ближайшее озеро – подальше от глаз проверяющих.
В-третьих, есть основания полагать, что запасы природного газа на Ямале хотя и очень велики, но являются последним источником газа в стране. Значит, если распорядиться этим газом так же бессмысленно, как распорядились сибирской нефтью, то уже ближайшее поколение наших потомков останется без качественных энергетических ресурсов.
Сейчас стало ясно, что отсутствие у государства денег и всплеск экологической активности граждан сделали свое дело – освоение газовых месторождений Ямала откладывается. А пять планировавшихся к постройке предприятий, перерабатывающих природный газ если и начнут строиться, то расходы на них будут значительно скромнее.
Эпоха гигантизма заканчивается. Для изучения природы Ямала требуется не менее десяти лет, а также опыт и усилия многих ученых – причем не только советских. Сейчас становится особенно важным, чтобы разработке крупных объектов в уязвимых северных регионах содействовали ученые разных стран, а в их реализации принимали бы участие фирмы, не замеченные в антиэкологичных действиях. Ведь если на советском Севере произойдет экологическая катастрофа – она заденет многие страны. И для ликвидации последствий понадобится слишком много сил и средств. Лучше и дешевле будет этого не допустить.