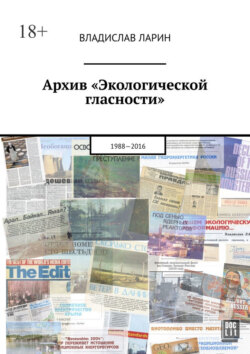Читать книгу Архив «Экологической гласности». 1988-2016 - Vladislav Larin - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter 1. Arctic. Oil and Natural Gas
Exploitation or crime?
ОглавлениеЖурнал Президиума АН СССР «Энергия: экономика, техника, экология», №6, июнь 1991 г.
Беседа состоялась в августе 1990 г., Салехард.
Районный государственный инспектор Ямало-Ненецкой окружной инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов Евгений Викторович Лебедев – человек достаточно известный на Ямале. С ним встретился наш специальный корреспондент Владислав Ларин, чтобы поговорить о комитетах охраны природы на Севере, да и не только об этом…
– Евгений Викторович, вы работаете в другом ведомстве, и это позволяет взглянуть на проблемы Госкомприроды и его отделений на местах достаточно беспристрастно. Мне кажется, что в последнее время авторитет этой организации начал падать, практически не успев появиться. Как мне недавно говорил директор крупного харьковского завода, «все они берут, причем берут деньгами, шмотками, продуктами – за то, чтобы чего-то не замечать…» Что же это за напасть на нашу природу? Её не только портит каждый, кому не лень, так и охранять по-человечески не могут.
– Первопричина, в том, что все эти природоохранные комитеты как в центре, так и на местах сформированы из отставных партийных и государственных функционеров, из «блатных» – короче, тех людей, которые привыкли неплохо зарабатывать, ничего не давая взамен. А оклады в системе Госкомприроды неплохие. Подобные явления получили такое широкое распространение, что даже попавшие в эту систему желающие работать люди постепенно вязнут, как в болоте.
Кроме того, природоохранные комитеты подчиняются непонятно кому. Когда комитет формируется, председатель исполкома старается подобрать туда более сговорчивых, по возможности «своих» людей. В результате природоохранники спрашивают: чего изволите? – не у госпожи нашей Природы, а у чиновника, облеченного властью.
Если же говорить о Тюменской области – вообще, и о Ямало-Ненецком округе – в частности, то думаю, что для всей этой территории необходим особый статус. Здесь гигантские запасы невосполнимых природных ресурсов – нефти, газа, газового конденсата, леса. Прежде, чем что-то делать, необходимо всё продумать, просчитать, собрать весь объём необходимой информации и только потом действовать. Ведь все эти ресурсы невосполнимые!
– Но для этого необходимы деньги. Где их взять?
– Я не знаю, где берёт деньги Госкомприроды, а наша инспекция находится под пятой Министерства рыбного хозяйства, получая деньги от него. И все наши намерения что-то закрыть или остановить заканчиваются на промысловом совете в министерстве.
Сейчас крайне необходима плата за загрязнение – как в Тюменской области, так и по всей стране. Идея эта не нова, поэтому скажу кратко. Все промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду, должны платить отчисления в фонд охраны природы. Причем по мере расширения этих предприятий количество отходов может увеличиваться. За это увеличение должна взиматься плата гораздо более высокая, чем за прежнее, «нормативное» загрязнение. Это неизбежно заставит предприятия подбирать для себя не первую попавшуюся технологию, а лучшую из имеющихся. Вот на эти средства и должен существовать Госкомприроды.
Необходима и реальная законодательная поддержка. Скажем, инспектор должен быть не ведомственным, а государственным. Пока же я открываю свое удостоверение и читаю на первой странице «государственный инспектор», а на второй – Главрыбвод, Министерство рыбного хозяйства. Так чей же я?
Скажем, сегодня я выношу постановление о закрытии предприятия рыбной промышленности, а мне говорят: голубчик, ты объявляешь локаут полутора тысячам человек, сядь, пожалуйста, на место и не дергайся. Люди должны работать, они должны хорошо зарабатывать, но в то же время должны сознавать, что их заработок приводит к вреду для природы. Только нормальная финансовая зависимость может позволить нам управлять этими процессами.
– Насколько я знаю, проблема будущего Ямала: «осваивать – не осваивать», а если осваивать, то когда и как – волнует многих граждан. Причем не только в нашей стране. Между тем, в связи с неопределенностью энергетической программы, неясно и с Ямалом. Каким видится недалекое будущее полуострова Ямал?
– Два года назад десять тысяч строителей только ждали команды, чтобы начать работу. Все были уверены, что Ямал будут осваивать традиционно – «в лоб», со всеми соответствующими издержками. Но этого не получилось – спасибо происходящим в стране переменам. Люди смогли высказать своё отношение к привычному «шапкозакидательству» и это помогло.
А на Ямале сейчас происходит отработка технологий. Или её видимость. Около четырехсот гектаров занято под так называемый полигон. Пока обсуждают – какие размеры должна иметь буровая площадка, как следует бурить скважины, что делать с газом, который имеет высокую температуру и подниматься с глубины через насыщенную линзами льда многолетнюю мерзлоту. Как считают специалисты, на изучение всех этих вопросов надо не менее четырех сезонов.
– Буровики с этими сроками согласны?
– Нет конечно! Буровики привыкли к пропорции метры – рубли. Чем больше пробурили, тем больше получили денег. А сейчас, когда проходят испытания, они получают «голый» тариф. Разумеется, им, привыкшим получать заработки, исчисляющиеся четырехзначными цифрами, это не подходит. И они открыто говорят об этом.
В результате, чтобы не растерять квалифицированные кадры, руководству приходится всеми правдами и неправдами сохранять объёмы бурения. Причина и следствие вновь скрутились в колесо, и это колесо покатилось по Ямалу.
– Это экспериментальное бурение или промышленное? И чем они различаются?
– Думаю, что это называется экспериментально-промышленное бурение. Поскольку, если это промышленное бурение, то мы должны его закрывать, а на экспериментальное оно не очень похоже.
И вообще, неотвратимо встал вопрос: ради чего это делается? Если ради людей, ради нас с вами, то надо менять подход, ведь прошедшие двадцать лет ничего нам не дали. Вся социальная программа пока напоминает «карточный домик, шитый белыми нитками». Жить в нем можно, но нельзя предсказать – когда он рухнет. Все это влечет за собой такие социальные напряжения, что даже трудно об этом говорить.
Последний пример. Наши производственники «по-быстрому» закупили комплекты жилых домов на Нововятском и Пермском комбинатах. Они их собрали, заселили в них людей, а жители начали болеть, жаловаться на раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки. Оказалось, что эти дома, а точнее – стройматериалы, из которых они построены, выделяют фенол.
Почему это происходит? Потому, что в технологическом процессе используются фенольные смолы, приготовленные по определенным технологиям. Эти технологии прошли экспертизу санэпидстанции и других соответствующих лечебных учреждений. Но когда заводы начали расширять производство, то в дело пошли смолы, взятые с других предприятий. И оказалось, что там экспертиза на безопасность их для здоровья людей не проводилась. Думаю, что это настоящее социально-экологическое преступление.
Кстати, люди стояли в очереди на это жилье по 15—20 лет. Им дали дома, из которых теперь всех надо выселять. В результате перспектива на получение жилья следующими очередниками отодвигается в необозримое будущее. А ведь они тоже ждут своих квартир по 10—15 лет. Вот таков лишь один из плодов привычного экспансивного освоения. Вычерпывая не возобновляемые природные ресурсы, мы забрались в карман к своим потомкам. Кроме того, в результате всех этих северных освоений теснится местное население. Если на материке ещё были какие-то возможности для маневров оленеводов с их стадами, то на Ямале это невозможно. Ведь зимуют оленеводы под Салехардом, а с наступлением лета продвигаются на северную оконечность полуострова Ямал. У них издавна заготовлены места стоянок, постоянные места, где они хранят свои зимние нарты с зимними вещами. Причем, там ведь не одно стадо, а много, и каждое движется по своему маршруту.
– И все-таки, запасы газа на Ямале гигантские. Значит, раньше или позже дойдёт до освоения этих месторождений. Как можно совместить интересы всех сторон?
– Не считая себя истиной в последней инстанции, хочу высказать собственную точку зрения. Климатические и природные условия полуострова Ямал не позволяют применять там отработанные на других месторождения методы освоения. Сейчас разумнее более полно и интенсивно использовать действующие месторождения, вовлекая в круг освоения все их ресурсы. Надо не только вершки собрать, но и сусеки подмести, чтобы пережить наступающее трудное время. Надо прекратить выпускать в атмосферу добываемый попутный природный газ из-за невозможности его переработать – даже частично сжигая его «для безопасности». Обязательно надо начать использовать попутные продукты нефтегазодобычи.
Надо бы вспомнить старую систему транспортировки газа, памятник который есть в Ухте – это поднятый над землей трубопровод. Его легко обслуживать, на нем меньше происходит аварий. Сейчас же стараются со всех месторождений газ подавать под землей, чтобы при строительстве побольше средств затратить на дорогостоящие земляные работы. Для этого роют траншею, укладывают в неё трубу, подчас плохо изолируя её от многолетней мерзлоты. В результате резко сокращаются сроки безаварийной эксплуатации. Скажем, трубопровод должен эксплуатироваться 18—20 лет, а получается 3—5 лет. Трубопроводы плохо обозначаются, их не замечают водители тяжелой техники, в результате происходят прорывы. Да и мерзлота их ломает и рвёт, выдавливает на поверхность. Успевает выйти немало газа, прежде чем ремонтники находят место аварии и начинают починку.
Кое-как сделанные переправы через небольшие речки создают возле трубы завалы древесины, поступающей с ледоходом, в результате – опять аварийные ситуации. Поэтому могу сказать, что способ освоения «сегодня сделаем, завтра посмотрим» для Арктики не пригоден. И пора бы научиться считать наши потребности, соизмеряя их с нашими возможностями.
– А что вы думаете об испытательном полигоне, который создается на Ямале совместно с американцами и канадцами для отработки будущих технологий?
– Испытательный полигон, на котором сегодня устанавливают действующее промышленное оборудование, в наших условиях может завтра превратиться в добывающее подразделение. Так что замыслы испытателей вполне понятны.
Газеты называют нынешних освоителей Севера первопроходцами. Ничего подобного! Это первопроходимцы. А первопроходцами были купцы прошлого века – Михаил Сидоров, Василий Латкин, Александр Сибиряков, которые не только получали с Севера, но и вкладывали в него. Первопроходцы были те, кто обнаружили нефть на Тимане, кто в 1882 г. организовал первую добычу по 200 баррелей в день со скважины, пробуренной на двести метров. Все это делали русские купцы еще сто лет назад! И деньги, нажитые на этом, не проматывали, а пускали в оборот во благо Севера и людей, его населяющих. А мы все это забыли и теперь радуемся – первопроходцы пришли.
Так что, пока наши производственники не «обрастут» приемлемыми для природы технологиями, добычу газа на Севере, на Ямал производить нельзя – это преступление против потомков.