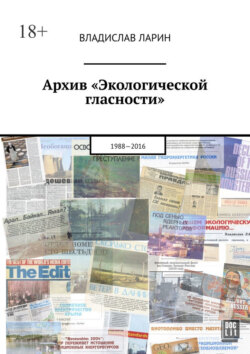Читать книгу Архив «Экологической гласности». 1988-2016 - Vladislav Larin - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter 1. Arctic. Oil and Natural Gas
Protect or Rescue?
ОглавлениеЖурнал Президиума АН СССР «Энергия: экономика, техника, экология», №1, январь 1990 г.
Беседа состоялась в августе 1989 г., пос. Харасавэй (Ямал).
Когда заходит речь о разрушении природы в процессе освоения заполярных месторождений нефти и газа, то представители строительных ведомств отвечают: да, природа страдает, но ведь после окончания строительства мы проводим рекультивацию! И создается впечатление, что ничего страшного не происходит – разрушили, потом восстановили. Только и всего. Хотя мало кто обращает внимание, что разрушают одно, а если и восстанавливают, то совсем другое. Что же понимают под рекультивацией и как она на деле проводится – об этом наш специальный корреспондент Владислав Ларин беседует с кандидатом биологических наук Юрием Филипповичем Рождественским, который занимается этой проблемой в Институте экологии растений и животных Уральского отделения АН СССР (Свердловск).
– Юрий Филиппович, мы беседуем в поселке Харасавэй, который является базой Карской геологоразведочной экспедиции на Ямале. Поэтому давайте с неё и начнем. Как сказали нам руководители экспедиции, в 1988 г. на нужды рекультивации после разведочного бурения было выделено полмиллиона рублей. Как специалист, расскажите, пожалуйста, на что тратятся эти деньги?
– Дело в том, что здесь под рекультивацией понимают техническую, но ни в коем случае не биологическую её часть. Я смотрел, как проводится рекультивация на территории буровых скважин. Убирают металлические конструкции, собирают деревянный мусор, чтобы где-то его закопать, стараются замаскировать буровой раствор и прочие разлитые химикаты. Вот и всё.
Мы были свидетелями интересной «рекультивации» на Новопортовском нефтяном месторождении в 1988 г. Там вдруг начали трактором растаскивать металлические части подальше от буровой скважины и бросать их в тех местах, где тундра уже начала восстанавливаться. Спросили у тракториста, зачем это делают. А нам, говорит, приказано весь этот хлам оттащить на 150 метров от буровой. Оказывается, под буровую вышку отводится площадь в три гектара, и теперь стояла задача выбросить все отходы работы за пределы отведённой площади. Выяснить, кто дал такую команду, нам не удалось.
Если рядом есть озеро, то всё сталкивается туда. В него попадает буровой раствор и прочая «грязь». Иногда такой «мусор» тонет, но иногда торчит из воды. Тягостное зрелище…
– Что же получается, этих полмиллиона рублей хватает лишь на бензин для тракторов и зарплату водителей, которые проводят такую маскировочную рекультивацию?
– Я это не подсчитывал, но если бы заранее дали деньги на проведение научных исследований, скольких ошибок можно было бы избежать! Мало того, что связанные с разработкой месторождений газа и нефти на Ямале ведомства не давали денег на исследования раньше, так даже сейчас приходится слышать, что наука не помогает нефтегазовому комплексу развиваться безопасно для природы. И вообще, она не нужна, так как обошлись же без неё при освоении других месторождений Тюменской области. На конференции в Надыме осенью 1988 г. это обвинение не раз звучало в выступлениях руководителей Мингазпрома и Миннефтегазстроя. Но как без средств, без техники, без единого координирующего центра можно проводить исследования? Ведь с нами заключают договоры на короткие сроки и на очень скудные суммы денег. Мы просто не сможем дождаться конца тех опытов, которые проводим, если договоры не будут продлены, а продлят их или нет – неизвестно.
– Как же обстоят дела с настоящей, биологической рекультивацией? Почему до неё никак не дойдут руки у геологов и строителей?
– Все наши исследования окажутся бесполезными, если срочно не будет принято решение о создании семенных хозяйств для тех видов растений, которые могут здесь произрастать. У нас в стране нет посадочного материала, которым можно было бы засевать нарушенные участки тундры. Нет семян!
В то же время идет сильное распыление средств. На Ямале работают более десятка научных и «околонаучных» организаций, и все они исследуют одну и ту же проблему – как проводить рекультивацию нарушенных земель. Работают кто во что горазд, не координируя свою деятельность и часто не делясь результатами. Встречаемся на месте и начинаем знакомиться: ты откуда, что здесь делаешь? Оказывается, то же, что и мы. Так что рекультивацией сейчас занимаются все, даже неспециалисты. Поманили людей хоздоговорными деньгами. Конечно, какое-то рациональное зерно появится, но КПД таких работ крайне низкий.
Сейчас называется цифра разрушенных и потерянных земель в Ямало-Ненецком автономном округе – около 6 млн. га. Может больше, может меньше – судить не берусь. Но уже очевидно, что счёт идет на миллионы гектаров. Давайте прикинем, сколько семян нужно для восстановления растительного покрова. На один гектар требуется около 10 кг, значит, на 1 млн. га – 10 тыс. т. А где их взять, если у нас нет ни одного хозяйства, которое выращивало бы такие семена? Негде взять даже одну тонну семян! Когда они могут появиться, если работы ещё даже не начинались? Использовать надо будет многолетние растения, значит первый урожай реально получить лишь через три года. И это при хорошей организации работ, при широких масштабах производства. Но для функционирования таких хозяйств нет даже минимально необходимого – нет первичного посевного материала для организации семенного хозяйства.
– Насколько реально, что удастся восстановить те самые растительные сообщества, которые здесь существовали до начала хозяйственного освоения? Или вы к этому не стремитесь, понимая безнадежность такой затеи?
– Мы работаем преимущественно со злаками как с неплохо изученной группой растений. Наиболее вероятно, что именно они здесь приживутся. А восстановить прежние сообщества – ягельники, мохово-лишайниковую тундру – нереальная задача. Слишком медленно они растут. Да и размножаются спорами: попробуйте их собрать!
В Якутии пытаются разводить семена, но для Ямала не все они могут подойти: здесь другие климатические условия. Хотя в Якутии – полюс холода, это не значит, что семена, произведенные там, будут пригодны для любого района Крайнего Севера. Для каждого региона семена селекционерами должны быть получены отдельно.
– Руководство Миннефтегазстроя называет сумму затрат на восстановление природы вокруг Ямбурга, равную примерно 150 млн. руб. Раз нет надежных методов рекультивации, на что же пойдут эти деньги?
– На той же конференции в Надыме прозвучала фраза о том, что у них – в Миннефтегазстрое – создано специализированное строительное управление по охране природы, цель которого, в первую очередь, восстановление нарушенных при строительстве земель. Мы, естественно, заинтересовались, и наши сотрудники решили выяснить – как это предполагается делать.
Для начала это строительное управление решило рекультивировать территорию одного из карьеров. Существует методика, по которой карьер заливается водой, зимой она замораживается, а на глубину оттаивания в летний период засыпается гравием или иным грунтом. Сверху насыпается слой плодородной почвы, необходимый для оптимального развития корневой системы растений.
– А где они собираются в Заполярье брать плодородную почву? И тем более семена?
– Этот вопрос мы им задали.
– Что на него ответили руководители специализированного строительного управления по охране природы Миннефтегазстроя?
– Они просто не готовы были к ответу, потому что не занимались этой работой. Ученые же в этом случае дают такую рекомендацию: прежде чем разрабатывать карьер, древесно-кустарниковые виды растений с его территории пересаживаются в те места, где требуется озеленение. Например, в парковую зону населенного пункта. А плодородный почвенный слой со всей площади бульдозером собирается в бурты, которые после выработки карьера и проведения работ по намораживанию линзы льда разравниваются по поверхности бывшего карьера. Затем высеваются семена, которых, кстати, у специализированного управления тоже нет. Семена хотели выписать из Тюмени – города, находящегося намного южнее Ямбурга, где предполагалась рекультивация карьера. Сеянцы, полученные из этих семян, в климатических условиях Крайнего Севера гибнут…
– С вертолета хорошо видны места в тундре, где почва разламывается и стекает по льду, расположенному у поверхности. Это явление встречалось и раньше или оно связано с необычно теплым летом в последние два-три года? Может быть, это начало потепления климата в Заполярье?
– Это явление, называемое солифлюкция (стекание перенасыщенного водой грунта по мёрзлой поверхности сцементированного льдом основания склонов) встречалось и ранее, хотя в последние годы оно получило более широкое распространение. Толчком к сползанию грунта по линзе льда может послужить единственный след вездехода, как нож, разрезающий почвенно-растительный слой до льда, который может быть на Ямале в нескольких десятках сантиметров от поверхности. Насчет потепления климата говорить пока рано. В нашем институте есть лаборатория, которая занимается прогнозированием климата для северных районов Урала дендрохронологическим методом. Пока большинство их прогнозов сбывается. Так вот там считают, что уже следующее лето на Ямале будет более холодным.
– Вы разрабатываете методики, по которым когда-нибудь можно будет проводить рекультивацию. А кто это будет делать?
– Может быть, Агропром или та организация, которая появится после его расформирования. Госкомприроды – вряд ли. У неё для этого нет ни денег, ни людей, ни возможностей. Рекультивация – это очень трудоёмкое дело. Скорее всего её должна осуществлять какая-то специализированная организация, которой пока не существует, или те организации, которые разрушали почвенно-растительный покров.
– Как в этом деле можно учитывать опыт зарубежных коллег, в первую очередь, на Аляске и в Канаде?
– Там готовились к рекультивации совершенно иначе. Когда только была поставлена цель – освоение углеводородных ресурсов на Аляске – заинтересованные фирмы сразу заключили договоры о поставке семян, пригодных для тех мест, с фирмами, которые их производят. У них было понимание, что как бы осторожно себя ни вели строители, что-то неизбежно будет повреждено. В результате, когда закончились работы, семенной фонд уже имелся. И технология рекультивации тоже была.
– А мы можем использовать их технологию и семена?
– Интересно, что, согласно некоторым литературным источникам, за основу они брали наши, сибирские семена, из которых путем селекционной работы выводили виды, пригодные для Северной Америки. Успех был достигнут такой, что полученные в результате этих работ семена стали закупать многие северные страны. Не везде эти семена оправдали себя, но, во всяком случае, они пользовались успехом. Нам может помешать воспользоваться канадскими семенами не только отсутствие валюты, но и различие климатических условий – семена в наших условиях могут не прижиться. Ведь они акклиматизированы к другим районам!
Для быстрого выведения видов растений, пригодных для рекультивации на Ямале, нужны деньги, техника и единый координационный центр. Когда работы ведутся по принципу «кто в лес, кто по дрова», результата можно ждать довольно долго. Недавно я встретился на Ямале с медиками, которые везли на Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение специальную пену, пропитанную удобрениями и семенами. Эта работа уже выполнялась и было выяснено, что пена смывается с поверхности почвы дождями или сдувается ветром. Потом эту пену стали поливать латексом, который её удерживал. Он не препятствует прорастанию семян, сам проверял. Опять люди, по незнанию, повторяют прежние ошибки и уже проделанные опыты.
– Кроме семян, вероятно, нужны еще удобрения?
– Удобрения нужно применять, но осмотрительно. Дело в том, что в половодье вода поднимается и заливает все низины, в результате удобрения могут оказаться в воде и рыбному хозяйству будет нанесен существенный урон. Здесь много озер, на дне которых скопился органический ил – сапропель. Установили, что его можно использовать в качестве удобрения.
– Мы пока говорим про рекультивацию так, словно единственное препятствие – это отсутствие семян. Но ведь за время функционирования буровой вышки вокруг нее скапливается немалое количество нефтепродуктов, бурового раствора, иных химреагентов. Не погибнут ли из-за этого семена даже при оптимальных условиях?
– Думаю, что при технической рекультивации те самые 500 тыс. руб., которые Карская экспедиция расходует на эти цели, должны пойти не только на сбор металлолома и древесных остатков. В первую очередь – на уборку ядовитых, канцерогенных веществ, расплывающихся по близлежащим озерам и речушкам.
Мы должны помочь тундре залечить нанесенные раны. Дело в том, что по срокам самозарастания нет единого мнения – одни говорят, что нужно 20—30 лет, другие – меньше. Я замечал, что уже через 2—3 года после ухода человека на нарушенных участках начинают появляться проростки отдельных видов растений. Через 10 – 12 лет территория вокруг скважины зарастает на 60—70%, но до восстановления первичной растительности необходим очень длительный срок – не один десяток лет. Некоторые биоценозы в своем первозданном виде совершенно не восстанавливаются. Спасти Ямал можно, но нужно серьезно подойти к рекультивации. И в первую очередь – к производству семян. Пока этого нет.
У меня были некоторые надежды на Госкомприроды, но сейчас я вижу, какое давление они испытывают – и сверху, и снизу. Что-то пока у них ничего не получается. Если правительство их не поймет, то ничего сделать не удастся. Нужны жесткие меры, законы, статус. А пока они подвешены в воздухе. Даже здесь, на Ямале – официально работы прекращены, а на самом деле – ведутся полным ходом. И никто не виноват…
Ко мне недавно подходил инженер экспедиции по охране природы и говорил, что ему предлагают подписать акт на перетаскивание буровой вышки в летнее время. На ней произошла авария, был сильный выброс газа. Чтобы скрыть следы, её хотят перетащить. Я объяснил, что в любом случае отыграются на нем, так как на акте будет стоять подпись инженера по охране природы.
Пять тракторов потащат буровую, это значит, полностью перевернут полосу тундры шириной примерно 300 м и длиной 14 км. Ничего живого там не останется. Если им это нужно, то они и без подписи перетащат, зачем в этом участвовать? Наоборот, надо звонить во все колокола, чтобы этого не случилось. Но, оказывается, зарплату инженер получает у нефтяников и за поднятый шум может лишиться своего места. В конце концов разрешение на перетаскивание буровой дал председатель поселкового совета поселка Яр-Сале с формулировкой «в качестве эксперимента». Будто еще недостаточно наэкспериментировались.
Когда я прилетел в Салехард и зашел сообщить об этом в управление строительства, то там сделали большие глаза, будто ничего не знают. Хотя ежедневно главному инженеру управления передают сведения по каждой буровой и не знать о «переезде» одной из них он просто не мог.
– Почему председатель поселкового совета, местная власть, хозяин этих мест дает подобное разрешение?
– Вероятно, пообещали денег на строительство дома. Или ещё что-нибудь в этом роде. Он ведь нищий и живет исключительно за счет богатых ведомств. Нищая власть, которой приходится ходить к богатым «дядям» и просить что-то построить. Зачем они будут ссориться?
Или еще. Включили меня в комиссию по оценке уже имеющихся разрушений почвы и растительности. Были в этой комиссии и председатель Агропрома Ямало-Ненецкого округа, и зоотехник из Яр-Сале. Летали мы по Ямалу, опускались возле стоянок оленеводов и спрашивали, очень ли мешают геологи и буровики, сильно ли разрушают пастбища. Нередко попадались оленеводы, которым трудно было ответить на вопрос, и за них отвечал зоотехник. Он говорил, что никакие геологи не мешают, а после вездеходов ягельники отлично восстанавливаются. Но я-то знаю, что в сухую погоду достаточно один раз проехать по ягельнику, как он рассыпается и погибает. А отрастает по миллиметру в год. Оказывается, он этих прописных истин не знал.
Интересно выступил и председатель агропрома округа. Он оценил поврежденные на Ямале пастбища в 9 рублей за один гектар, отнеся их к бросовым землям. И даже представители Мингазпрома, которые, естественно, старались уменьшить стоимость поврежденных земель, не ожидали такого. Они-то оценивали один гектар минимум в 3—4 тыс. рублей. Вот такие дела. Оказывается, на Ямале пастбищ нет – одни бросовые земли. Интересно, где же пасутся 200 тыс. оленей?
Уже потом мы пересчитали, и у нас получилась стоимость около 15 тыс. рублей за один гектар. А если эти деньги умножить на миллионы разрушенных гектаров? Так что экономика и экология идут рука об руку.