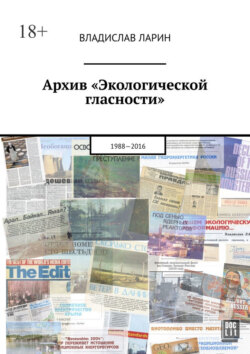Читать книгу Архив «Экологической гласности». 1988-2016 - Vladislav Larin - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter 1. Arctic. Oil and Natural Gas
Next Stop – Yamal
ОглавлениеЖурнал Президиума АН СССР «Энергия: экономика, техника, экология», №1, январь 1990 г.
Материал написан в августе 1989 г., пос. Харасавэй (Ямал) – Тюмень – Москва.
В наших природоохранных учреждениях ещё только думают, как бы организовать независимую экологическую экспертизу новых проектов вторжения в неосвоенную природу. А о независимой общественной экспертизе говорят как о чем-то очень далеком и крайне сложном. Между тем, в августе 1989 г. состоялась совместная советско-шведско-датско-финская экспедиция на полуостров Ямал. В ней приняли участие ученые, журналисты и представители общественности, а целью было выяснить, насколько разрушительны для природы наши методы освоения газовых месторождений на севере Тюменской области. И организована она была небольшой группой энтузиастов. Материалы об экспедиции подготовил специальный корреспондент Владислав Ларин, принявший в ней участие в качестве одного из организаторов.
А почему, собственно говоря, охраной природы должны заниматься только официальные лица и учреждения? Так подумали участники международного движения народной дипломатии «Next Stop -Soviet», название которого можно перевести как «Следующая остановка – СССР». Оно появилось около двух лет назад в Дании и имеет свои представительства в других европейских странах. Его цель – расширение контактов между нашими странами.
По плану газ с полуострова Ямал должен в значительной степени уходить в страны Северной Европы. Швеция предполагает в течение двух ближайших десятилетий «выйти» из ядерной энергетики. Но как это сделать? Предложения есть различные, и одно из наиболее реальных – советский газ. Планируются поставки также в Данию, Финляндию и другие страны. Как повлияет столь масштабное вторжение в Заполярье на глобальные процессы в окружающей среде? Выяснить это должна была независимая международная экологическая экспертиза.
Кто хоть раз переезжал летом на дачу, может лишь отдаленно представить, с какими проблемами это было связано. Каких усилий стоило организовать поездку двух десятков представителей нескольких европейских стран в закрытый для свободного посещения «пограничный» район советского Севера, каким является полуостров Ямал, обычными словами просто не описать. И все-таки это удалось группе общественных активистов при поддержке Международного фонда сохранения дикой природы, Экологического фонда СССР, журнала «Энергия: экономика, техника, экология» и ещё многих людей.
Ямальский синдром
Еще десять лет назад коренным жителям Ямала – ненцам и пришельцам-геологам не было тесно в тундре. Одни пасли стада низкорослых северных оленей, другие искали газ. Но если геологам и буровикам с их мощной техникой и солидными денежными средствами местные жители до сих пор мешают не очень сильно, то ненцы с начала восьмидесятых годов почувствовали: в тундру пришли чужие люди.
Буровики выбирают для своих нужд наиболее удобные, сухие места. И пастухи, приходя на знакомые прежде стоянки, порой их не узнают – вместо привычного чума стоит буровая вышка. Да и земли уже немало попорчено гусеницами вездеходов и отходами бурения.
Может быть, не было бы ничего страшного в происходящих на Ямале переменах, если бы заранее, до начала освоения ученые провели всесторонние исследования природы полуострова, изучили особенности многолетней мерзлоты и определили границы экологической устойчивости региона. Только тогда стало бы возможным научно обосновать максимально возможные нагрузки на него. Ничего этого сделано не было. Исследования ведутся лишь постольку, поскольку в них нуждаются осваивающие Ямал нефтегазовые ведомства. А процессы развиваются бесконтрольно и порой угрожающе.
На многие десятки километров от поселков буровиков тундра изрезана следами вездеходов. Вертолетов мало, и их используют на более ответственных работах. А когда нужно отвезти какую-нибудь железку на ближнюю буровую – отправляют вездеход. И вот он лезет через речушки, взбирается на бугры, пробирается по болотам. У водителя нет ни компаса, ни карты, и как он определяет, куда надо двигаться – одному богу известно. Иногда он взбирается на крышу вездехода и всматривается в ландшафт, пытаясь найти знакомые ориентиры. И молитва у него одна – только бы ничего не случилось с вездеходом, ведь рации у него тоже нет. Бывает, что вездеход ломается или теряет гусеницу, и тогда водитель вместе со своими пассажирами возится в воде и грязи, пытаясь его починить. Хорошо, если это происходит летом, а если зимой? О какой уж тут охране природы говорить! Самому бы домой вернуться.
В старом вездеходном следе почти всегда стоит вода. Может быть, дождевая скапливается, а может – мерзлота подтаивает, ведь до неё местами менее полуметра. В результате, каждый новый проход вездехода – не по старому следу, а рядом. Скудный почвенный слой разрушается, и появляется болотце. Мерзлота начинает протаивать. Может быть, и не так опасно это для многолетней мерзлоты, да вот беда – изучена она плохо. Поэтому степень угрозы определить невозможно.
Известно, что в многолетней мерзлоте на Ямале встречаются огромные линзы льда. Но какова их мощность? Может быть, несколько метров? Раньше так и думали, но сейчас появляются данные, что их мощность может составлять сотни метров. Могут ли они начать таять? Трудно пока сказать однозначно, но если да, то от полуострова Ямал в лучшем случае останется одноименная группа островов. В худшем случае нам придется добывать газ на шельфе, а прибрежным странам Европы – строить защитные дамбы. Может быть, это утопия, но окончательный вывод можно сделать лишь после тщательных исследований.
Карская экспедиция
В июне 1974 г. на Ямале нашли первый газ. После этого геологи и буровики, объединенные Карской геологоразведочной экспедицией, пробурили десятки разведочных скважин для определения запасов месторождения. А так как для экспедиции главный отчетный показатель – количество пробуренных метров, то на стенде наглядной агитации возле столовой в поселке буровиков Харасавэй помещена плановая цифра на 1989 г. – 50.000 м. Средняя глубина скважины – 3.500 м. Это сколько же их бурится в год? Десять-пятнадцать? А сколько лет ведётся геологоразведка?! Не менее пятнадцати…
Кстати, наш эксперт-геолог – шведский профессор университета в Лунде, осмотрев несколько буровых, сделал вывод, что там, где бурят 10 скважин, хватило бы одной-двух. Он считает, что этого вполне достаточно для определения запасов «подземных кладовых». Остальные скважины, как он думает, бурят для достижения тех плановых цифр, которые вывешены на стенде возле столовой.
В настоящее время на Бованенковском месторождении уже пробурено 84 скважины, и запасы газа оцениваются только на «верхних» горизонтах (до 3.500 м) в 3,7 трлн. куб. м. Учитывая, что коэффициент извлечения газа (в отличие от нефти) достигает 99%, можно подсчитать, что разведанных запасов при разумном использовании хватит не на один десяток лет. Но запасы могут оказаться больше. Кроме того, как считает наш эксперт-геолог, вместе с газом на глубине может оказаться нефть. Теперь главная задача – быстро освоить азы разумного природопользования и определить, насколько реально покрыть наши внутренние потребности и внешнеторговые обязательства за счет газа с Ямбурга и Уренгоя. Те месторождения уже разведаны и освоены, кроме того, они находятся в менее уязвимом регионе. А с Ямалом пока надо повременить.
Несколько слов об экономике. Экспедиция получает для своих нужд около 50 млн. руб. в год, из которых лишь 1% (500 тыс. руб.) расходуется на рекультивацию нарушенной тундры. Звучит неплохо, хотя денег, конечно, для охраны природы маловато. Только кто сказал, что эти деньги идут на охрану природы? Они уходят на то, чтобы увезти буровую вышку и собрать наиболее крупный мусор. Оставшийся бытовой мусор, озера из бурового раствора, многие кубометры дерева и тонны металла остаются на площадке – очевидно, в ожидании следующих этапов рекультивации или дополнительных денежных средств. Даже вездеход, уверенно ползущий по тундре, застревает в этих антропогенных завалах. Буровая площадка – наиболее опасное место для него, где увязнуть в грязи или потерять гусеницу проще, чем в естественном болоте.
Между тем, за 15 лет работы экспедиции в поселке, вокруг него и на местах бывших буровых площадок скопилось столько одного лишь металла, что хватит на много дней работы крупного металлургического завода. Только вывозить его пока невыгодно – ни денег, ни славы. Да и за ущерб природе штрафов ещё не берут. А о древесине, мусоре и остатках бурового раствора даже разговора пока нет. Валяется, разлагается, отравляет скудную северную природу.
На базе экспедиции нам рассказали довольно символичную историю про утонувшую буровую вышку. А потом мы приехали на это место. Стояли на берегу озера, смотрели в его серую воду, и трудно было поверить, что в его глубину ушла пятидесятиметровая конструкция. А дело было так. Однажды, во время бурения, газ стал вырываться на поверхность и скапливаться в низинах. Обычно в таких случаях рабочие отбегают подальше и поджигают его выстрелом из ракетницы. Так и сделали, но утечка была слишком большая. Начался пожар, да такой сильный, что очень быстро вышка погрузилась в мерзлоту. На её месте образовался пылающий гейзер – грязь бурлила и полыхала. Чтобы погасить пожар, надо было пробурить наклонную скважину, попасть в «ствол» первой и заглушить её цементом. Удалось это сделать не сразу, в результате пожар продолжался много месяцев. Это к разговору о «безопасных» технологиях. И заодно пример – что может случиться c Ямалом.
На танке за морошкой
Рассуждая о северных проблемах, каждый раз неизбежно возвращаешься мыслью к проблеме транспорта. Ничего там не сделаешь без него! Именно поэтому особенно высоки требования к его экологической безопасности. Только выбор очень невелик – вертолет, вездеходы двух-трёх типов да заполярный «автобус» – фургон-кунг на базе автомобиля «Урал». Может быть, где-то есть другая – лучшая и более безопасная техника, только нам она не встречалась. Вертолет – для дальних перевозок и наиболее ответственных работ. «Урал» – для дорог с твердым покрытием. Остаются вездеходы ГАЗ-71, ДТ-30П и «Тюменец». Последний долгое время рекламировался как универсальный и экологически безопасный, но на самом деле почву он кромсает своими резино-металлическими гусеницами сильнее, чем все остальные вездеходы, a скорость – чуть больше 10 км/ч. ГАЗ-71 небольшой, легкий и не слишком «прожорливый» вездеход – на 100 км пути потребляет около 60 л бензина. Только почву разрушает не хуже своих старших братьев. ДТ-30П (дизельный тягач, грузоподъёмность 30 тонн, плавающий) – настоящий монстр: огромный – в кабине помещаются шесть человек, с прицепом-кунгом, на широких гусеницах, мощность двигателя 700 л. с. Кстати, на 100 км пути он расходует 500 л топлива. Будь таких транспортных средств побольше, они потребляли бы всю добываемую в Тюменской области нефть.
Первейшая – транспортная проблема не решена, а нам толкуют про экологическую безопасность для природы новых технологий добычи и транспортировки углеводородного сырья. Ну откуда они могут взяться, если нет самого главного – средств передвижения! Ведь когда выходит из строя легкий ГАЗ-71, люди ездят в тундру и за ягодами на ДТ-30П.
Инспекция
Теоретически, летом любые разъезды по тундре запрещены. За нарушение – серьезная кара: компенсация от организации, владеющей вездеходом – 27 руб. за каждый нарушенный квадратный метр почвы, 500 рублей – штраф с водителя и три оклада с его начальника. Сурово, ничего не скажешь. Только инспекторов, которые должны ловить нарушителей, надо самих долго искать. Они не имеют ни своих вертолетов, ни иной техники, ни реальных прав.
Для того, чтобы получить штраф, надо поймать нарушителя с поличным. А как это сделать, если вездеходы не имеют бортовых номеров? Конечно, теоретически это возможно, а вот практически… Как заставить водителя остановиться и подчиниться требованиям инспекции? Как выяснить, откуда он выехал и кому при надлежит вездеход? Как подсчитать масштабы ущерба? Проблем много, они пока не имеют решения, а работы в тундре уже давно ведутся. По-прежнему, в коридорах власти экономические потребности важнее, чем экологические проблемы.
Лето 1989 г. на Ямале было жаркое – температура нередко поднималась до 25°С далеко за полярным кругом. И с вертолета хорошо просматривались белые пятна на зелени тундры. К одному такому пятну мы подобрались поближе. Это оказался тяжелый суглинок, который стекал в ближайшую низину. Рядом были подобные образования меньшего размера, по которым можно было понять, как это происходит. Почва просто трескалась, и тяжелый суглинок начинал сползать по слою льда, который залегал здесь на глубине 20—30 см. Площадь таких пятен была от десяти до десятков тысяч квадратных метров. Мерзлота таяла. И что удивительно – вокруг не было ни одного следа от вездехода. Так что этот процесс, очевидно, естественный, связан с таянием верхнего слоя льда в условиях тёплого лета.
В результате участникам нашей экспедиции стало совершенно ясно, что исследования мерзлоты и природных процессов на Ямале далеко отстают от темпов хозяйственного освоения природных богатств. Учитывая, что необходимость срочной добычи газа на полуострове пока не доказана ни с экономических, ни с экологических позиций, члены экспедиции считают, что промышленное освоение газовых месторождений целесообразно отложить как минимум до 2000 г. Это позволит лучше изучить естественное протекание природных процессов и возможные последствия для окружающей среды их искусственного стимулирования. Вместе с этим, такая отсрочка позволит провести конкурс проектов на безопасное с экологической точки зрения и наиболее выгодное экономически освоение ресурсов полуострова Ямал. В данном случае – время работает на нас.