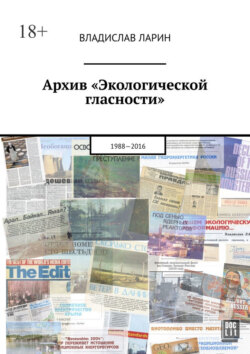Читать книгу Архив «Экологической гласности». 1988-2016 - Vladislav Larin - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter 2. Nuclear Legacy of the USSR
«Nuclear society» without secrets?
ОглавлениеВладислав Ларин
Журнал Президиума АН СССР «Энергия: экономика, техника, экология», №10, октябрь 1990 г.
Встреча состоялась в апреле 1990 г. в Доме культуры Института атомной энергии (ИАЭ) им. И. В. Курчатова, Москва.
В уставе «Ядерного общества СССР» записана одна из его задач: способствовать снижению уровня секретности, касающейся использования ядерной энергии в военных целях – до необходимого минимума, в мирных целях – до полного исключения. Свобода сбора и распространения информации в этой области может помочь кому-то вылечиться от «ядерной аллергии», но может и усилить её – всё зависит от того, что же от нас скрывают. Теперь многое зависит от искренности ученых-атомщиков и от объективности журналистов.
Через сорок лет
Сорок лет атомная энергия победно шествовала по нашей стране. Специалистов для неё готовили лучшие учебные заведения, сырье добывалось из лучших месторождений, денег выделялось – практически сколько захочется, а для размещения реакторов находились самые удобные места. Советоваться тогда не было необходимости ни с общественностью, ни с независимыми специалистами. И в «Ядерном обществе» необходимости не было – зачем оно нужно, если альтернатив атомной энергии нет и обсуждать нечего? Но в результате такой «благотворительной» деятельности сороковая годовщина запуска первого в СССР атомного реактора была отмечена страшнейшей из катастроф – чернобыльской, которую не скоро забудет человечество.
По мнению западных специалистов, ещё одна тяжелая авария типа чернобыльской или на АЭС «Treemile Island» в США может перечеркнуть все усилия специалистов и окончательно закрыть атомную энергетику. Поэтому вопросы надежности систем АЭС, их оборудования и культуры обслуживания реакторов сегодня являются основными для людей, связавших свою судьбу с атомной энергетикой. А для этого уже необходимо «Ядерное общество», объединяющее специалистов – энтузиастов атомной энергетики. Да и с общественностью приходится встречаться и советоваться – она теперь многое решает. И даже журналистам атомщики теперь должны рассказывать не только об успехах, но и делиться сомнениями, которых, кстати сказать, и у них появляется всё больше. Это стало ясно в ходе встречи ведущих сотрудников Института атомной энергии им. Курчатова с журналистами. Так как большинство собравшихся в зале людей были москвичи, то можно понять их интерес не только к проблемам атомной энергетики в целом, но и к столичным реакторам.
«Надо отбросить сказки»
Этой фразой началась встреча. Речь шла о том, что надо отказаться от представления, будто можно в ближайшие десятилетия изменить структуру энергетики, переведя её на новые энергоносители. Что ж, с этим трудно не согласиться – энергетика вообще, а советская – особенно – система довольно инерционная. Даже в Америке строительство новой атомной или угольной электростанции занимает 8 – 10 лет. И кое-кто из американских специалистов предрекает своей стране энергетический кризис из-за того, что в настоящее время потребление энергии возрастет на 4% в год, а новые АЭС не строятся. Но в любом случае недопустимо концентрировать внимание и денежные средства на одних источниках энергии, не развивая других. Надо бы использовать зарубежный опыт не только в области повышения безопасности атомной энергетики, но и в развитии нетрадиционных (а на самом деле – самых традиционных) источников энергии. И, разумеется, надо не только говорить об энергосбережении, но и составлять реалистичные общегосударственные программы.
И все-таки, что ни говори – возобновляемые источники энергии пока трудно отнести к «большой энергетике». С помощью ветровой энергии невозможно плавить металл, а солнечные элементы едва ли в состоянии решить проблемы с обогревом наших жилищ. Проблема осложняется тем, что, как было сказано, в нашей стране 30% электростанций выработали свой ресурс. Чем их заменить на время ремонта? А может быль, надо попробовать прекратить выпуск сверхплановых, но никому не нужных изделий нашей индустрии? Ведь это и есть то самое энергосбережение, о котором сейчас говорят.
Атомщики предлагают на выбор. Сравнительно безопасные с их точки зрения АЭС с неотработанной технологией утилизации отходов и снятия реакторов с эксплуатации. Или ТЭС, дающие половину всех выбросов в атмосферу соединений серы, значительную часть тяжелых металлов и пыли. Кроме того, как они утверждают, радиоактивный фон возле АЭС, работающей в нормальном режиме, всегда ниже, чем возле ТЭС. Это вполне вероятно, но как решается проблема выбросов тепловых станций в США или Японии? Может быть, нам пригодится их опыт не только в области атомной энергетики, но и в тепловой?
Надо сказать, что устаревшие подходы к экологическим проблемам крепко сидят в сознании у всех нас. Скажем, в Москве кроме реакторов в ИАЭ есть немало вредных и опасных производств. Они давно отравляют здоровье жителей. Само их существование в столице – нонсенс. Давайте вынесем их за пределы города – предлагают некоторые люди. Давайте. Только куда? Кто захочет иметь в своем городе или поселке вредное производство? Значит, надо не переносить, а закрывать. И вместо них создавать (если в этом действительно есть необходимость) новые, с качественно иными технологиями. Если безотходность производства пока является утопией, то малоотходность – факт. Этот принцип должен стать универсальным и относится ко всем крупным промышленным объектам – ТЭС, АЭС, металлургическим комбинатам и фармацевтическим производствам.
Так и шел разговор – уходил в сторону от узко понимаемых проблем атомной энергетики, возвращался обратно. В этом нет ничего удивительного – сейчас наша главная проблема – безопасность существования. И её нельзя решить в рамках «одной отдельно взятой» отрасли.
В Москве есть всё…
Во время беседы было заявлено, что в Москве существуют десять реакторов. Из них восемь – в Институте атомной энергии. Эти данные несколько отличаются от тех, которые нам были известны ранее. Они нуждаются в проверке и уточнении. Вполне может быть, что выступавшие не знали о существовании реакторов в других организациях – монополизм ведомств на свою информацию пока до конца не преодолен. Кроме того, известно, что кроме предприятий, «производящих» радиоактивность, в Москве есть немало организаций, её «потребляющих». Это исследовательские институты, медицинские учреждения и рентгеновские кабинеты. Есть, наверное, и что-то ещё.
Только вокруг ИАЭ есть как минимум пять учреждений, связанных с производством и использованием источников радиоактивного излучения. Это НИИ приборостроения, НИИ неорганических материалов, Институт биофизики, Институт вирусологии и известная на всю страну шестая больница, в которой «чистились», лечились и умирали люди, пострадавшие в Чернобыле и в других ядерных авариях.
По мнению ученых-атомщиков, именно в непрофильных учреждениях происходит больше всего инцидентов с радиоактивностью. Специалисты, особенно старой закалки, которые постоянно имеют дело с делящимися веществами, твердо знают и стараются соблюдать меры безопасности. Этого нельзя сказать о тех, кто получает радиоактивные препараты в виде «черного ящика» с краткой инструкцией – получил, использовал, выбросил.
Думаю, что сейчас надо бояться не столько атомных электростанций, которые достаточно жестко контролируются, сколько такого ползучего распространения радиоактивности. По понятным причинам мы несколько «зациклились» на АЭС, но совершенно выпустили из виду другие источники опасности. Очень важно сейчас провести инвентаризацию всех известных мест, где человек может получить дозу облучения, превышающую известный предел.
Люди, чувствующие себя настоящими учеными, а не сотрудниками какого-то научного ведомства, должны в значительной мере взять на себя сбор и распространение объективной информации. Только таким путем может быть восстановлен авторитет отечественной науки, на падение которого сейчас жалуются исследователи. Иначе слухи и домыслы окончательно уничтожат тот авторитет, который десятилетиями накапливали научно-исследовательские институты.
Вспоминается забавный случай, который произошел возле института вирусологии в Москве. Точнее, забавным он кажется сейчас. А когда жители окружающих домов стали обнаруживать в своих квартирах белых мышей, им было не до смеха. Даже школьники соседней школы знали, для чего используют белых мышей ученые этого института. Сразу поползли слухи о чуме, оспе и других заболеваниях, которыми могли для эксперимента быть заражены эти мыши. Мало кто знает – может ли мышь переносить эти человеческие болезни. Но повод для паники был. Хорошо, что вскоре мыши перестали появляться, а из людей никто не заболел.
Другое дело – повышенная радиоактивность, которую без прибора не обнаружишь и действие которой проявляется не сразу. Кстати, для развития гласности в этой области надо бы издавать побольше объективно написанных книг о воздействии радиации на человека. То, что мы имеем – явно недостаточно и позволяет некоторым специалистам заявлять о практически полной защищенности организма при сильных дозах облучения.
Куда же деваются отходы?
Так вот, было сказано, что всего в московском Институте атомной энергии есть 8 реакторов из которых 6 действуют в настоящее время. Для работы реактора необходимо много чего, но в первую очередь – топливо и вода. Вода охлаждает реактор, нагревается и сбрасывается в ближайший водоем. Ближайший водоем – Москва-река. Топливо производится, хранится, загружается в реактор, постепенно выгорает в нём (при этом его активность многократно возрастает) и в конце концов складируется тут же для длительного хранения.
Главный инженер ИАЭ объяснил: как и все предприятия города, институт подлежит четкой регламентации по работе с радиоактивными отходами. Высокоактивные отходы сдаются в НПО «Радон», которое только недавно было рассекречено. Оказалось, что оно находится под Загорском. Там даже успела побывать группа американских специалистов из Совета по переработке и хранению радиоактивных отходов в США. Они отметили, что хранилище более или менее соответствует принятым нормам. Но не уточнили – все-таки более или менее.
Проблема радиоактивных отходов – одна из немногих, при разговоре о чём атомщики разводят руками. Дело в том, что она до сих пор не решена и не похоже, что будет решена в сколько-нибудь обозримой перспективе. Радиоактивные отходы особенно опасны потому, что довольно долго хранятся без заметного снижения уровня радиоактивности. При этом выделяется много тепла и радиоактивных газов. Значит, надо говорить о захоронении их на геологически долгие времена – десятки и сотни тысяч лет. Пока же их закладывают на хранение в лучшем случае на 30 лет, надеясь, что за это время проблема получит какое-то решение. То есть, производя отходы, атомщики перекладывают решение проблемы их безопасного хранения на потомков. Захотят ли потомки заниматься этими проблемами? Похоже, таким вопросом пока никто не задается. Таким образом наши учёные благодетели программируют на будущее довольно сомнительный образ жизни. И объясняют это тем, что радиоактивных отходов довольно мало в сравнении с другими промышленными отходами.
Высокоактивные жидкие отходы ИАЭ переправляются на соседнее предприятие – НИИ неорганических материалов и там «отверждаются», а затем поступают туда же – в НПО «Радон» под Загорск. На территории ИАЭ есть несколько временных хранилищ радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. Именно при создании одного из них в семидесятых годах был обнаружен склад боеприпасов времен первой мировой войны. А вокруг уже стояли реакторы и были сооружены хранилища радиоактивных отходов. Также вплотную к забору ИАЭ стоят жилые дома северо-западного района столицы. Очень внимательно пришлось действовать саперам.
Был вопрос и об объемах отходов, отправляемых в НПО «Радон». Может быть пока специалистам неясно – можно ли об этом говорить, а быть может это точно неизвестно. Во всяком случае было сказано, что в год совершается около трехсот «машино-рейсов». То есть практически каждый день жители ближних улиц могут видеть выезжающую из ворот ИАЭ процессию со знаками радиоактивности на боках машин. Интересно, это что – в самом деле немного? Причем известно, что вывозится лишь незначительная часть образующихся радиоактивных отходов.
Что вынуждает руководство ИАЭ хранить отходы на территории своего института, который находится посреди густонаселенного Хорошевского района? Тем более, что никакой санитарной зоны институт не имеет и ближние дома стоят прямо возле его забора.
На это было сказано, что не всегда целесообразно излишними отходами заполнять хранилище в Загорске – сперва их собирают и «промежуточно» хранят на территории института. А уже потом вывозят. Вероятно, это делается в целях понижения уровня радиоактивности отходов перед перевозкой. Интересно, что чувствуют жители окружающих домов? Скорее всего – ничего. Но это лишь до первого серьезного происшествия. Ведь сейчас эпоха гласности. Если раньше «мелкие неприятности» можно было не делать общеизвестными, то сейчас их лучше избегать.
Более подробно остановились на проблеме жидких отходов, которых довольно много производят действующие реакторы. В многомиллионном городе это серьезная проблема. Известно, что она до сих пор не решена. Как же происходит утилизация?
Основную часть жидких отходов по спецканализации перекачивают в соседний Институт неорганических материалов. Его сотрудники на специальной очистной станции под контролем санэпидстанции их перерабатывают, очищая на ионообменных смолах. За это ИАЭ платит своему партнеру около семисот тысяч рублей в год. Насколько безопасна эта технология? Неясно. Во всяком случае, ближайшие дома смотрят окнами прямо на эту станцию очистки. Более подробно проблема очистки некоторых радиоактивных отходов рассмотрена в материале «Отдел номер 160» (журнал Президиума РАН «Энергия: экономика, техника, экология», №3, март 1992 г.)
Если проследить схему очистки жидких отходов до конца, то окажется, что после отработки остается сухой остаток – его отвозят в Загорск. И вода – её сбрасывают в Москву-реку в районе Серебряного бора. Кто контролирует? Семь нянек.
Во-первых – лаборатория экологии ИАЭ, сотрудники которой ежедневно берут воду из Соболевского ручья, по которому эта вода стекает в Москву-реку, на анализ. Активность воды – на уровне природного фона (несколько единиц на 10—11 Ки на литр). Во-вторых – санэпидстанция, которая контролирует с двух сторон: с одной стороны – ведомственная СЭС Третьего управления Минздрава, а с другой стороны – Краснопресненская СЭС, принадлежащая Мосгорздраву. Они тоже берут пробы. В-третьих, последние пару лет институт Водгео организовал большую комплексную экспедицию, проверяющую Москву-реку в районе института. Как сказал заведующий лабораторией экологии ИАЭ, их результаты практически совпадают.
Что касается «спецстоков», передающихся для переработки на станцию очистки, то их сравнительно немного – десятки кубометров. Но через территорию института идут транзитом воды Соболевского ручья, в который сбрасываются воды из третьего контура реактора. Они тоже постоянно контролируются, и в Москву-реку поступает вода с радиоактивностью на уровне природного фона. Но объемы огромные – от 10 до 15 млн. м3 в год. Так что все мы, москвичи, купаемся в воде «оттуда», поскольку дальше воды реки текут через всю Москву.
Разговор о радиоактивных отходах закончился фразой о том, что есть ещё один их вид, который «отправляется в спецперевозки». Больше об этом главный инженер ничего сказать не смог, а мы воспитаны так, что ещё не всегда умеем настаивать на разъяснениях. Хотя, судя по откровенности собеседников, можно предположить, что этим занимается уже другое ведомство.
И ещё о контроле. Кроме жидких и твердых радиоактивных отходов в реакторе образуются также газообразные – для них возле каждого реактора стоит вентиляционная труба. Кстати, было дело – находясь на территории ИАЭ на экскурсии, я хотел сфотографировать самую высокую трубу, которая хорошо видна из всех окружающих ИАЭ жилых домов. На что мне было твёрдо сказано: «не надо». Ясно, что служба безопасности должна свои деньги отрабатывать – но ведь гласность… Да и выглядело это довольно глупо – я пришёл домой и сфотографировал эту трубу со своего балкона.
Так вот, контроль за тем, что поступает в атмосферу, производится дозиметристами с каждого реактора. Это ведомственный контроль – сколько скажут, столько и будет. Так что пар из труб НИИ неорганических материалов идёт только в тёмное время суток и на рассвете – когда ранние спортсмены делают утреннюю зарядку на небольшом стадиончике возле его забора. Лишь по цвету пара можно понять, что из трубы что-то поступает в атмосферу – приборов-то у населения нет. А как хотелось бы иметь!
Атомщики о глобальных проблемах
Когда общественность «встает на дыбы» и возражает против строительства очередной запланированной много лет назад АЭС, представители атомного ведомства вполне логично спрашивают: а как же вы собираетесь жить без энергии? Ведь наша страна, как нам говорят, находится в перманентном энергетическом кризисе! Нам постоянно не хватает энергии. На одних предприятиях приходится отключать фильтры на очистных сооружениях ради экономии дефицитного электричества. Другие предприятия вынуждены работать вполсилы из-за того, что энергетики отключают электричество после выработки некоего лимита. Примеров масса…»
Между тем, наша страна входит в группу лидеров по производству энергии на душу населения. Эта группа объединяет 15—20% населения планеты. И даже этим лидерам постоянно не хватает энергии. Что же произойдет, если оставшиеся за бортом энергетического благополучия 80% жителей Земли захотят приобщится к благам такой расточительной цивилизации? Планета просто не имеет ресурсов, которых хватило бы на всех. Что мы можем посоветовать развивающимся странам, если сами постоянно жалуемся на нехватку энергии?
Нельзя сказать, что ответ был исчерпывающий, но уж логичный – во всяком случае. Виноватым оказался наш хозяйственный механизм. А что же еще? У нас начальство привыкло бороться с трудностями не столько с помощью головы, сколько с помощью лозунгов. Когда стало ясно, что энергии не хватает – выдвинули лозунги экономии типа «уходя гасите свет». Но это же смешно. Даже если мы все будем сидеть без света, нашей экономике сильно не полегчает – ведь именно индустрия и сельское хозяйство потребляют основную долю энергии. А на долю населения приходится лишь несколько процентов.
Значит, надо думать, искать качественно новые решения. Американцы так и сделали – практически десять лет не создавали новых энергопроизводящих мощностей, а вместо этого проводили фундаментальные исследования. Искали новый путь развития. А у нас люди, привыкшие производить энергию, другим делом заниматься не могут. Можно представить, сколь трудно переориентировать их с энергопроизводящего мышления на энергосберегающее. Со всей очевидностью это относится и к сотрудникам атомной отрасли. И вновь возник вечный для нас вопрос – нужно ли производить больше энергии, чем мы имеем? Ещё его можно сформулировать так: производить или экономить?
Производить – считают энергетики-атомщики. Сейчас страна живет в состоянии энергетического голода и для перехода на новые, энергосберегающие технологии, потребуется в течении следующих 10 лет наращивать её производство. Быть может, за это время созреет решение проблемы. А если нет? Где тот рубеж, возле которого следует остановиться и твердо сказать: хватит – это край. Способно ли человечество определить его? Вопрос если и не риторический, то уж во всяком случае – философский. Но только найдут ли наши философы свободное время, чтобы им заняться?
За счет чего же следует это самое производство наращивать? «Конечно, за счет атомной энергетики», – пошутил кто-то из журналистов, пока специалисты на мгновение притихли.
Это пока точно не известно – был ответ. Дело в том, что впервые за долгие годы нашей экономической истории было разработано несколько альтернативных сценариев развития энергетики. Теперь задача правительства – выбрать из них наиболее приемлемый. Наиболее оптимистичный сценарий делает упор на природный газ. Но здесь вступают в силу различные экологические препятствия, связанные с освоением месторождений – особенно на Ямале. А так как точных данных по запасам газа пока нет, то есть опасение, что выйдя на оптимальный уровень добычи затем придется её быстро сворачивать т.к. газ закончится. А если учесть огромные деньги, которые придется затратить при освоении месторождений и создании всей инфраструктуры, то есть сомнения в целесообразности опоры только на газовый сценарий. Поэтому у атомщиков имеется другой сценарий – газ плюс атомная энергия. Посмотрим, на каком из них остановятся те, кто принимает окончательное решение.
Что делать с риском?
Только после ряда крупных аварий на промышленных объектах специалисты заговорили о том, что надо бы в каждом случае определять соотношение ожидаемой пользы от строящегося предприятия с возможными потерями в случае аварии на нем. По понятным причинам АЭС оказались в числе первых объектов, к которым был применен такой подход. В результате, во всем мире наблюдается заметное снижение интереса к атомной энергетике. Произойдет ли возрождение? Это зависит от того, когда появится новая, отвечающая требованиям времени концепция безопасности и соответствующая ей технология.
До недавнего времени наше понимание безопасности сводилось к безопасности военной. Мы готовились отразить нападение любого агрессора, вкладывая в приготовления к этому, по мнению некоторых экспертов, более половины своего национального дохода. И за этими приготовлениями не заметили, как сзади подошла другая опасность, связанная с техносферой. В результате для того, чтобы справиться с новыми проблемами – нужно вложить деньги. Разумеется, не соизмеримые с расходами на оборону, но все-таки очень большие.
В небольшой Голландии на технологическую безопасность затрачивается примерно 50 млрд. долл. в год. А на безопасность всей атомной энергетики нашей страны в текущем 1990г. было выделено около 5 млн. руб. Мы примерно знаем реальный курс рубля и можем эту цифру выразить в долларах.
Вкладывая деньги в безопасность промышленности, страны Западной Европы с 1983 г. сократили свои потери от аварий в 20 раз (на 2.000%). За этот же период в нашей стране они сократились на 10%. Так что у нас по-прежнему действует принцип – вкладывать деньги туда, где уже произошел прорыв. И люди, занимающиеся распределением денег, не могут понять – лечить болезнь всегда дороже, чем её предотвратить. Причем, пока в нашей стране не делается прогноз – поможет ли такое вложение денег или совсем наоборот – бывает и такое.
Вот так говорили специалисты о проблемах безопасности атомной энергетики. Что ж, может быть, «Ядерное общество» без секретов приведет нас в конце концов к безъядерному обществу. Ведь хорошая информированность лиц, принимающих ответственные решения, поможет им не повторять прошлых ошибок.