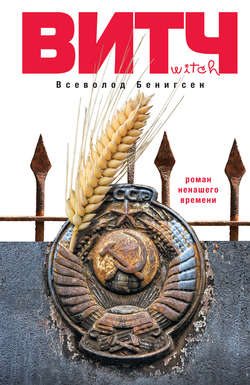Читать книгу ВИТЧ - Всеволод Бенигсен - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеПисатель и журналист Максим Терещенко долгое время прожил в Америке. Из России, точнее, Советского Союза он эмигрировал в середине восьмидесятых, в разгар застоя. Причиной отъезда послужила не столько литературная или тем более политическая деятельность. Просто в жене неожиданно проснулась одна восьмая еврейской крови, и эта одна восьмая потребовала срочно перевезти ее на историческую родину, то бишь в Израиль. Максим, в котором не было ни восьмых, ни шестнадцатых еврейской крови, не очень-то хотел ехать, но все приятели стали наперебой крутить пальцем у виска, приговаривая: «Ты что? Ты посмотри, что тут делается, это же бодяга на века», а приятель-художник Маранцев прямо сказал: «Старик, если хочешь оставаться, – оставайся. Дай мне только жениться на твоей жене. Тебе уже все равно, а я еще хочу мир посмотреть». Тем самым подтвердив ходившую в то время поговорку, что жена-еврейка – не роскошь, а средство передвижения. Но Максим представил вечно заляпанного масляной краской да еще и с остатками завтрака в бороде Маранцева в постели со своей женой, и его аж передернуло. Он понимал, что художник не претендует на полноценный брак, но все равно было как-то неприятно. К тому же восьмилетний сын Максима, словно сговорившись с мамой, стал настаивать на переезде, хотя ему-то, казалось бы, что за дело? И Максим сдался – сказал, что готов. Два года они всей семьей мотались по каким-то кабинетам, выслушивали кучу унизительных гадостей от чиновников различной степени паршивости и ждали вызова из ОВИРа. Были потрачены уйма времени, нервов и денег на различные взятки и справки. С работой становилось все хуже и хуже. Терещенко и без того считался не шибко устойчивым в идеологическом плане писателем, а тут еще жена-еврейка и грядущая эмиграция. Редактор одного толстого журнала ему так прямо и сказал: «Я знал, Максим, что ты ненадежный человек, но чтоб настолько…» – как будто у ненадежности бывают различные степени. Тем более в СССР, где надежность была сродни беременности – либо есть, либо нет, кто не с нами, тот против нас. В общем, все это было довольно мучительно, и Максим уже начал было подумывать, а не повернуть ли колесо истории вспять, то есть повиниться и накропать что-то такое идеологически зрелое. Мол, что там с отъездом, еще бабушка надвое сказала, а жена и сын требовали материальных благ, и немедленно. Не желая понимать, что это входит в логическое противоречие с венцом будущего изгоя-эмигранта, который Максим носил уже второй год. В общем, Терещенко плюнул и написал, но вышло неискренне, а советские чиновники от литературы могли простить все, но неискренность чуяли за версту и не прощали. А в феврале 1985 года они с женой наконец получили разрешение на выезд. 8-го марта они вылетели в ФРГ. 9-го марта прилетели в Израиль. А 10-го марта умер Черненко. Первым секретарем ЦК КПСС стал Горбачев, и началась другая эпоха. Началась, конечно, не сразу, но когда в 1986 году «пошел процесс» перестройки, ускорения и гласности, Максим взвыл. Такой подлости от судьбы он не ожидал. Два года мучений и остракизма на Родине плюс год изучения иврита и работы типа сторож-мусорщик-охранник на земле обетованной, и на тебе! Но перенес удар стоически. Просто напился в баре, поскандалил с женой и подрался с полицейским. Точнее, попытался подраться. Потому что его мгновенно скрутили и доставили в участок. Отделался, слава богу, небольшим испугом и большим штрафом.
Несколько лет спустя он узнал, что финалы у таких историй бывают гораздо более трагичными. Так, в какой-то газете он прочитал, что его коллега, один восточно-немецкий писатель, долго вынашивал план побега из ГДР в ФРГ. Ради того чтобы получить доступ к военной зоне в Берлине, он стал работать на Штази, «заложил» нескольких друзей, расстался с любимой женщиной и написал энное количество лояльной макулатуры. Добившись доверия, он наконец получил разрешение побывать в Западной Германии на какой-то литературной конференции. Обратно не вернулся. Это случилось в октябре 1989 года. А через двадцать дней рвущиеся к свободе восточные немцы оттеснили пограничников и, снеся все на своем пути, прорвались в Западный Берлин. В результате стена фактически перестала существовать. А писатель, не вынеся то ли угрызений совести, то ли просто издевательства судьбы, застрелился. И пока где-то шумели братающиеся немцы, он лежал в одном из западногерманских двориков с простреленным черепом.
Так или иначе, Максим твердо решил вернуться на Родину. Но сначала надо было уладить развод с женой, к которой он уже давно не испытывал никаких чувств, кроме приятельских. Она вообще была прагматиком и никогда не понимала зацикленности мужа на искусстве, и в частности на литературе. Можно было только удивляться, как им удалось прожить вместе почти десять лет. Еще в СССР ей были глубоко чужды и его радости по поводу чудом добытых книжных раритетов, и его вечно голодные приятели, и их собственная семейная неустроенность. Максим же без искусства себя не мыслил. А что было делать в Израиле? В крошечном государстве, главной заботой которого является выживание? Тут уж не до культуры. В общем, жену все устраивало, а Максима нет. Сложнее было с сыном, которого Максим любил, но тот так рьяно занял сторону матери, что Максиму ничего не оставалось, как положиться на время, которое, как известно, лучший доктор. После развода, Максим сразу решил вернуться в Россию – Израиль ему порядком осточертел. Но в России на тот момент царил форменный бардак-разброд, от которого он даже за один год в Израиле слегка отвык. Тогда он решил махнуть к приятелю в Америку – тот обещал устроить Максима в одну из крупных русскоязычных газет. Думал, что на год, но застрял на добрый десяток лет. В Москву вернулся в конце девяностых. Долго привыкал к новому языку, обычаям, отношениям, а также криминалу, но в итоге пообвыкся, пообтерся, пообтесался и даже начал снова что-то пописывать. Не так активно, как в молодые годы, да и все больше какие-то эссе да статьи, но на хлеб с маслом хватало.
Однако через некоторое время он стал замечать, окружающая действительность его раздражает. Он как-то перестал ее, что ли, понимать. Всю сознательную жизнь он мучился от необходимости интриговать и «хитрожопить» (по любимому выражению одного его приятеля) и именно поэтому ходил при совке в неблагонадежных. То было, конечно, влияние шестидесятников со всякими их «хочу быть честным» и «днями без вранья». Потом наконец наступило время полного разгула демократии – все бросились говорить друг другу правду, причем желательно в лицо и с легким креном в хамство (тогда это называлось полемикой). Но затем время сделало какой-то странный головокружительный кульбит, и прямота и честность, которыми все прямо захлебывались в конце восьмидесятых и начале девяностых, неожиданно снова уступили место хмыканью, меканью и беканью. Проблема была в том, что в СССР интриги, невнятица и прочие подводные камни были естественной частью советского пейзажа и несли какой-то смысл (идеологический, политический). Не говоря уж про то, что у некоторых были, образно выражаясь, лоцманские карты этого замысловатого подводного ландшафта – люди учились лавировать между этих камней: читали между строк, искали фиги в карманах, намеки и скрытые смыслы. Даже ложь была почти всегда во спасение. В новые же времена идеология перестала доминировать, но и отношения между людьми распались. Причем до такого молекулярного уровня, что нормой жизни снова стала невнятица – вежливая, хамоватая, раздолбайски-пофигистическая, но, увы, непостижимая, ибо в ней не было ни смысла, ни логики. Это была невнятица, вызванная тотальным отсутствием интереса людей как друг к другу, так и к самим себе. А заодно и к окружающему миру.
Максиму отчаянно хотелось зацепить, ухватить эту реальность, потому что он был уверен, что как никто другой болезненно ощущает ее действие на себе. Можно даже сказать, он пытался вывести формулу нашего времени. В дело шло все: от случайных встреч и брошенных фраз до симптоматичных, как он считал, проявлений.
Вот и сейчас, проснувшись после странного сна с сигнализацией и не менее странного разговора с Толиком, Максим сидел перед монитором компьютера и чувствовал, как кровь медленно, но верно приливает к голове, окатывая мозг своими девятибалльными волнами. На экране «горел» ответ редактора одного журнала на посланную Максимом статью.
«Уважаемый Максим.
Спасибо за Ваше эссе. Оно нам очень понравилось, и мы были бы рады напечатать его в ближайшем номере журнала.
Тем не менее, спасибо за Ваше время и за то, что обратились в наше издание. С нетерпением будем ждать от Вас новых работ.
С надеждой на будущее сотрудничество,
Вячеслав Мазуркин».
Максим несколько секунд в задумчивом и напряжении глядел на этот набор букв, пытаясь вникнуть в смысл письма. Но вникнуть не мог. Было ощущение, будто то ли он со сна чего-то недопонимает, то ли автор письма что-то пропустил. Он еще раз перечитал текст. Нет. Вроде ничего не пропущено. Слова не обрываются, точки в конце предложений поставлены. Он опустил курсор мышки ниже – нет ли какого-нибудь постскриптума, но никакого постскриптума не было. Была, правда, автоматически прикрепленная к письму реклама таблеток для улучшения мужской потенции, но на постскриптум она не тянула. Максим еще раз «побродил» по имэйлу вверх-вниз на предмет какого-нибудь приложенного текстового файла, но ничего не нашел. Тогда снова (уже в третий раз) внимательно перечитал письмо. «Были бы рады», «тем не менее», «будем ждать».
«Бред какой-то, – мысленно чертыхнулся Максим. – Если эссе им нравится, то при чем тут “тем не менее”? А если не нравится, то… при чем тут “понравилось”, ебать-колотить?!»
Чувствуя растущее раздражение, он попытался взглянуть на вещи с позитивной стороны. Допустим, журнал будет печатать эссе. Они просто оговорились с этим «тем не менее». Но тогда как объяснить иезуитскую приписку «с надеждой на будущее сотрудничество»? Выходит, они надеются, что в каком-то светлом будущем смогут со мной посотрудничать. То есть когда-нибудь. То есть не в этот раз.
Максим подумал, что картина вырисовывается скорее негативная. В таком случае весь смысл письма сводится к вежливому отказу. Но что за идиотское «тем не менее»?!
Максим снова опустил курсор мышки на рекламу таблеток для улучшения потенции и замер. А что если эта реклама неслучайна? Что если ее прикрепили с умыслом? Ну, скажем, это скрытый намек на его, так сказать, писательскую потенцию. Вот, мол, Максим Петрович, извините, но старость не радость – стареете, слабеете. И эссе ваше так себе. Вяловатое. Мы вас обижать не будем. Откажем вежливо, а в качестве подсказки нате вам рекламку. Так сказать, дадим маячок.
Но если такой намек подразумевался, то отказ выходил в таком разе не очень вежливый. Можно даже сказать, хамоватый.
Однако по трезвому размышлению Максим эту мысль отмел. Ну а что тогда? Он принадлежал к писателям старой советской закалки, привыкшим искать подтекст там, где его нету, смыслы там, где они и не валялись, скрытую фигу там, где она и не подразумевалась. И надо сказать, что туман, который вольно или невольно напускали современные редакторы или просто люди, отвечающие за переписку, этому немало способствовал. Вот и сейчас он отчаянно пытался обнаружить черную кошку в темной комнате, где и кошки-то, поди, не было.
За свою долгую литературную деятельность в СССР он привык к разным туманным формулировкам, преследующим одну цель – послать автора куда подальше. На этом деле он, можно сказать, целую свору собак съел. В разные годы его произведения были то «идеологически незрелыми», то «идейно невыдержанными», то «художественно несостоятельными».
Иногда они «не отвечали нормам советской морали», иногда «не отражали веяний нового времени», а чаще всего «не учитывали растущие потребности советского общества». Последняя формулировка особенно угнетающе действовала на Максима, потому что вообще находилась за гранью человеческого понимания. Тем более что именно ею пригвоздили, как назло, его наиболее конъюнктурную повесть под названием «Магистраль за горизонт», которую он написал, как раз таки очень даже учитывая растущие потребности если не всего советского общества, то по крайней мере своей жены, а также растущего пропорционально своим потребностям сына: жена требовала шубу, сын – новый велосипед и куртку-аляску.
Но то, с чем он столкнулся в современной России после возвращения, было большим прогрессом в деле невнятности отказа. Причем чаще всего было непонятно, отказ ли это вообще. Например, позвонил как-то Максиму один его приятель-кинопродюсер и заявил, что хочет запустить готовый сценарий Максима. Более того, контракт уже готов. Мол, на следующей неделе обсудим финансы и поставим подписи. Так прямо и сказал. Они встретились. Приятель долго вещал о том, что все идет просто замечательно, что деньги спонсоры дали, режиссера нашли, но контракт надо доделать. Через неделю они снова встретились (уже, правда, по инициативе Максима). Приятель, расплывшись в голливудской улыбке, снова заверил, что все на мази, но туманны сроки – так что, приходи, дорогой, послезавтра, все подпишем. Максим пришел. Приятеля не было на месте. Максим позвонил ему. Тот сказал, что, увы, сейчас занят – все переносится на завтра. Максим вернулся на следующий день. Приятель, светясь уже каким-то нечеловеческим счастьем, заверил, что все отлично, контракт готов, но надо разобраться с финансами. Надо ли говорить, что вскоре Максим уже сам стал ловить приятеля, названивать ему и умолять того просто и честно сказать ему, что ничего не будет. Дескать, он не обидится! Правда-правда. Просто пусть честно скажет – проект развалился. Приятель, слыша подобное, искренне возмущался (неужели, Максим ему не доверяет?!) и говорил, что все вот-вот состоится, не надо только паниковать. Это продолжалось почти месяц. Наконец Максим сдался. Перестал звонить, перестал ходить. Его, впрочем, тоже не тревожили. Однако Максима мучил один вопрос – ЗАЧЕМ?! Зачем было затягивать момент отказа, почему нельзя было напрямую сказать «извини, старик, сорвалось»! Максим ночей не спал, все пытался отгадать этот ребус. Может, приятель хотел его унизить, но за что? Может, действительно все было на мази, но со дня на день что-то менялось и приятель боялся отпугнуть Максима? Может, мировой финансовый кризис неожиданно выкосил благодатное для творчества поле и никто не догадался, что это всерьез и надолго? Увы, все эти версии выглядели, мягко говоря, неубедительными. Так и не понял. Потом даже попытался сублимировать свое недоумение в повесть под названием «Эпоха вежливости», но как-то не заладилось.
«Вот ведь время, – подумал тогда Максим, – ускользающее какое-то… Деньги то ли есть, то ли нет, приятель то ли есть, то ли нет, реальность то ли есть, то ли нет».
И теперь, глядя на монитор, где некий Вячеслав Мазуркин (человек ли, фантом ли) писал ему что-то невразумительно-вежливое, та же мысль промелькнула в голове.
Максим закурил, но даже вкус сигареты показался ему искусственным и неопределенным. Поморщившись, он задавил сигарету в пепельнице и вспомнил, как буквально полгода назад, ползая в Интернете, наткнулся на биографическую справку о себе. Точнее, это была небольшая статья в электронной энциклопедии, где, как водится, были указаны и основные биографические данные. Статья была написана бойким и одновременно гладким языком. Никакой критики и никакого личного отношения – вот, мол, есть и такой писатель-литературовед. Вряд ли бы Максим стал читать следующую за статьей «свою биографию» – он ее и сам знал назубок, однако первая же строчка зацепила его глаз и вызвала легкое раздражение: в ней был неверно указан год рождения. Максим бросился читать дальше и понял, что неверный год рождения – это цветочки. То, что было написано дальше, нельзя было даже назвать небрежностью, это было просто-таки злонамеренное искажение фактов. Все было настолько переврано, что Максим даже стал подумывать, не идет ли речь о каком-то другом, неизвестном ему, тезке-однофамильце. Но это предположение пришлось отмести, ибо указанные в справке произведения действительно принадлежали его перу. Их, слава богу, почти не тронула буйная фантазия автора статьи, если не считать, что сборник рассказов Максима назывался «Душевный порыв», а не «Душевный прорыв» и вышел он не в 67-м году, а в 77-м. Но самым неприятным было то, что автором сей справки значился старый (и, можно сказать, добрый) приятель Максима Игорь Бубенцов – милейший, обаятельнейший человек. Прочитав заметку, Максим пришел в такое душевное волнение (вот он, «душевный прорыв»), что едва не бросился искать бубенцовский телефон, чтобы немедленно высказать ему свое презрительное фи. Но затем поостыл и плюнул. Судьба, однако, осталась недовольна отходчивостью Максима и буквально через пару недель сама столкнула его и Игоря в редакции одного из московских журналов. Они поздоровались, пожали друг другу руки, задали несколько дежурных вопросов о здоровье и личной жизни, а затем Максим все-таки решился спросить насчет той заметки.
– Извини, Игорь, хотел тебя спросить, а это не ты, часом, статью в Интернет-энциклопедию писал?
– Какую? – удивился Игорь, но потом вспомнил: – А-а… Было дело. Писал. И что?
– А кто справку составлял? – спросил Максим, продолжая в глубине души надеяться, что к справке Игорь не имеет отношения.
– Ну я, – так же спокойно ответил Игорь.
– Прости, но я никогда не печатался в газете «Завтра»… – робко начал Максим.
– Слава богу, – искренне обрадовался Игорь. – Вот уж куда не надо, так не надо.
Максим растерялся. Он ожидал ну хотя бы удивления или сожаления.
– Но я вообще не сорок девятого года рождения!
– Да? – удивленно потер мочку уха Игорь. – А я вроде и не писал, что сорок девятого…
– Но там стоит сорок девятый.
– Ну, значит, это редакторы че-то напутали. Это ж поколение пепси. Через одного дебилы. Чего от них ждать, уродов криворуких?
– Но я не заканчивал филфак МГУ!
– Точно не заканчивал? Ну, старик, надо закончить. Раз начал.
Игорь рассмеялся и фамильярно хлопнул Максима по плечу, но, заметив, что тому не до смеха, стер улыбку.
– Извини, но вот это точно без моего ведома вписали. Я им сказал – проверить!
– Но ты же мог и сам проверить!
– Да буду я еще с этими идиотами малолетними связываться! Все равно все переврут.
– И в «Известиях» я не публиковался!
– Вот это молодец! – не моргнув похвалил Максима Игорь. – И не лезь туда! Не надо.
– И я не печатался в израильской прессе! – возмущенно продолжил Максим.
– Слушай, – как будто искренне расстроился Игорь, – я все понимаю, но для этих молодых что Израиль, что Япония – все на одно лицо. Не переживай. Я иногда такое про себя читаю, что волосы на жопе дыбом встают.
– Да как это, блядь, не переживай?! – завопил, потеряв терпение, Максим. – Там же все выдумано и переврано! Можно же было все это проверить? Твоя ж подпись стоит.
– Максим, твою мать. Ну, стоит моя подпись, и что? Я ж тебе говорю, это сидят молодые уроды и лепят, как бог на душу положит. Я могу хоть сто раз проверить, они все равно в конце все переврут. Лучше не связываться. И зря ты так кипятишься. Не стоит оно того. Ладно, старик, все. Нет времени болтать. Держи связь. Я побежал! Удачи!
Игорь улыбнулся своей фирменной обаятельной улыбкой и исчез. Максим остался стоять в полном недоумении.
Вернувшись домой, он тут же сел писать повесть под названием «Эпоха раздолбайства». Но быстро сник, потому что нужно было придумывать сюжет, а сюжета-то в голове и не было.
Потом прошло немного времени, и Максима позвали на какую-то кинотусовку, кажется, премьеру нового фильма. Там он встретил старого знакомого режиссера Андрея Савенкова. Тот был с молоденькой пассией, студенткой сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, Светланой. Девушка была хороша собой, связно говорила и явно разбиралась в истории кино. Максим был приятно удивлен таким редким сочетанием красоты и насмотренности. Они говорили о новых российских фильмах, и девушка даже высказала несколько спорных, но интересных суждений. Но в какой-то момент Максим упомянул художника Магритта. Девушка с удивлением посмотрела на Максима и недоуменно спросила: кто это? Максим вежливо объяснил.
– Ах, художник! – успокоилась та. – Но я живопись не люблю.
– Как это? – растерялся Максим. – Кино и живопись – искусства визуальные, стало быть, родственные. Надо же хотя бы немного разбираться в изобразительном искусстве. Это ведь как театр. Смешно разбираться в кино, но при этом не ходить в театр.
– А я и не хожу, – без тени смущения ответила девушка. – Мне театр как-то неблизок.
Максим хотел было начать вещать что-то про кругозор, но потом понял, что бессмысленно. Это было новое поколение, уверенное, что доскональное знание творчества Ахматовой позволяет не знать, кто такая Цветаева. А если ты учишься на актерском факультете, то зачем тебе знать историю кино? А если ты занимаешься станковой живописью, то зачем тебе ходить в театр?
Придя домой, Максима бросился писать повесть под названием «Эпоха безразличия». Но и эту повесть бросил, так толком и не начав.
Однако он уже чувствовал, что ускользающее время постепенно раскрывает перед ним свою сущность. Еще немного, и он поймает его за хвост, выпотрошит и, может, даже приготовит что-нибудь съедобное. Может, роман. И вот тут такое заманчивое предложение – написать книгу о «Глаголе». Удачно, черт возьми! Впрочем, не надо бежать впереди паровоза – знаем мы эти «предложения».
Максим пододвинул пепельницу, достал затушенный «королевский» бычок и снова закурил. Жена в свое время выгоняла его то на балкон, то на лестничную клетку. Теперь холостяцкая жизнь позволяла курить везде и всегда. Он зажал сигарету зубами, затянулся и, положив сцепленные руки на затылок, задумался. Надо бы написать что-то в ответ этому треклятому Мазуркину, но что? Едкое? Высокомерное? Унизительно-понимающее? Заранее страдая от бессмысленности готовящегося действия, Максим занес руки над клавиатурой, как пианист перед сложным этюдом, но так и просидел с полминуты, не зная, куда эти руки опустить.
Сам не заметил, как мысли упрямо перенесли его к предложению о книге.
Нет, черт возьми. Надо бы попробовать рассказать этой гребаной тупой современной молодежи, кто стоял у истоков их свободы. Перекинуть, так сказать, мостик из того времени в это. И заодно раскрыть серость современности через яркую историю «Глагола», художников в загоне, диссидентство семидесятых и прочее. Рассказать, что то поколение было во многом гораздо свободнее нынешнего. Что богатый внутренний мир позволял ему уходить от внешних запретов и сохранять здравый смысл и внутреннюю независимость. Хотя и идти на определенные компромиссы и жертвы.
Неплохо сказано, черт возьми.
Максим почувствовал, что загорелся. Аж подушечки пальцев зачесались. Это было давно забытое ощущение. Ведь и он во имя искусства тоже часто шел на жертвы. И иногда (редко, но все же) спрашивал себя: а не зря ли были эти жертвы? Этой книгой он смог бы доказать себе и остальным, что нет, блядь! Не зря!
Максим решительно закрыл страницу электронной почты, собрал распечатанные сценарии и сложил их на пол у стола.
Все! Даешь свободу творчества!
Максим открыл новый документ и быстро напечатал:
«То было время замороженных мечтаний, приглушенных кухонных разговоров и давящей серости. Серости, которая лишь казалась всесильной, ибо ей противостояли те, кто…»
Тут Максим запнулся, неожиданно зевнул и почувствовал, что прерванный сон потихоньку возвращается, туманя сознание. Он стал что-то исправлять, переправлять. Окончательно запутался и замер. Во рту тлела сигарета.
«Литература литературой, – подумал он, – но без живых свидетелей эпохи ничего не будет. Завтра начну поиски».
Он задавил бычок, выключил компьютер и пошел досыпать.