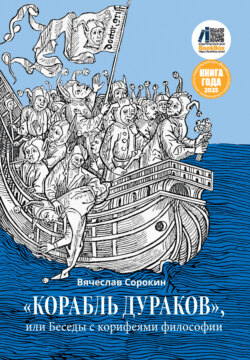Читать книгу «Корабль дураков», или Беседы с корифеями философии - Вячеслав Сорокин - Страница 4
Беседа вторая[5]. Второе знакомство с корифеями
ОглавлениеНе знаю, можно ли причислить профессора Михаила Сергеевича Восленского к «корифеям». По образованию он был историк, не философ. Но марксизм в его официальном варианте знал хорошо (сам его преподавал) и принадлежал к истеблишменту. Ему были положены соответствующие привилегии, и был он выездным. Так что всё же он был скорее корифеем, чем не корифеем. Судьба свела меня с ним в 1967 году, два года спустя после моего несколько ошеломительного для меня самого переселения в Швецию. В Швеции и произошло моё знакомство с Восленским. Впрочем, не в буквальном смысле – просто я стал свидетелем одного забавного эпизода в его жизни. Об этом эпизоде не знает сегодня больше никто. Восленский умер, и умер второй свидетель этого эпизода – Ю. Чикарлеев.
1967 год. Швеция. Пагуошская конференция. Это значит: собираются учёные со всего мира и беседуют о мире во всём мире. Какой-то толк от таких бесед, надо полагать, был. Но только не для мира во всём мире. В любом случае толк был для тех наших учёных, которым таким образом удавалось побывать за границей. Так они получали возможность узнать, что такое капитализм на самом деле. И толк был для НТС: на такие конференции старались посылать своих людей. В 1967 были посланы мы с Юрием Чикарлеевым, который заслуженно имел славу лучшего распространителя «антисоветской литературы». Под рубрику «антисоветчик» тогда могли попасть и Платон, и Блаженный Августин, не говоря уже о Шопенгауэре и Ницше: они просто были зачислены в «фашисты». Советскими философами были все тогдашние философы страны, со всеми их различиями, хотя какие уж там различия! Антисоветскими были все прочие, кроме Гегеля, Фейербаха, философа-рабочего Дицгена и, понятно, Маркса и Энгельса. Философом был объявлен также Ульянов Владимир – великим.
Мы с Чикарлеевым поехали. В стареньком-престареньком «Фольксвагене». Чикарлеев всю дорогу опасался, что он сломается. И, конечно же, он сломался. Он регулярно у него ломался, а новую машину ему покупать не хотели. Экономили в НТС на всём. Сотрудники выживали за счёт зарплат жён, работавших на немецких предприятиях. Там зарплаты были немецкие, в НТС же они соответствовали прожиточному минимуму. Кто не был женат, едва сводил концы с концами. К такой категории принадлежал и Чикарлеев, но, в отличие от других, ему была положена машина, поскольку он был оперативным работником. Вот она-то и сломалась по дороге из Германии в Швецию. Пришлось чинить машину в чужой стране, без знания языка. Объяснялись на пальцах. Но мы всё же доехали. И уже на следующий день я увидел корифеев, причём настоящих – учёных, в том числе самого Капицу, того самого, который будто бы сказал Берии: «Когда ты разговариваешь с физиками, ты должен стоять по стойке смирно!»[6]
Вечером ко мне в комнату ворвался Чикарлеев. Он был из тех, о ком говорят: «у него недержание речи». В данном случае для недержания речи были основания. Среди других книг мы привезли несколько свежих номеров журнала «Грани» с главой из «Семи дней творения» Владимира Максимова. Глава называлась «Дворник Лашков». В «Посеве», отмечая большой талант автора, гадали и спорили: кто он? Максимов поставил условие: напечатать главу анонимно. Человеком, получившим от Чикарлеева первый экземпляр журнала, стал… Капица! Это не укрылось от внимательного взгляда Восленского, который, как выяснилось, был назначен главным смотрящим в делегации. Он был по своим убеждениям, как и было положено ему с его привилегиями, марксист, а по положению – высокопоставленный партийный работник, то есть как нельзя лучше подходил для роли смотрящего в данном случае. Обычно для таких целей выбирали людей помельче, но очень уж серьёзным был состав группы: академик Миллионщиков, академик Арцимович, ещё какие-то академики, всё физики да физики, из философов не было, насколько помню, ни одного. Академики приехали с жёнами и свободное время использовали для походов по магазинам, где мы с книгами уже поджидали их. Мы шутили: уж не из-за нас ли они так любят заходить в магазины?
Юрий с восторгом поведал мне подробности случившегося: по его словам, Восленский, на глазах у которого состоялся акт передачи советскому человеку неизвестным лицом подозрительного предмета, вмешался. Конечно, он видел, что это журнал – поэтому и вмешался. Если бы это была атомная бомба, он бы, может быть, сделал вид, что ничего не произошло. Но ему очень хотелось прочитать тот журнал самому. Он протянул руку к журналу, который Капица держал не пряча, но для человека, который был в состоянии поставить на место самого Берию, тем более не составляло труда поставить на место партийного чиновника, даже такого ранга. «Нет уж, – сказал Капица, отводя руку с журналом за спину, – это вы оставьте мне».
Так Капица стал первым советским человеком, прочитавшим «Дворника Лашкова» в напечатанном виде. А теперь угадайте, кто стал вторым… Правильно, Восленский. Он два дня не отходил от Юрия, выпрашивая и для себя экземпляр, а тот отговаривался: почта, мол, не пришла из Германии; или: в машине-де забыл журнал. На самом деле журнал лежал в его сумке. «Пусть они за нами бегают, а не мы за ними», – пояснил он мне. Под «они» он понимал тех, кто был однозначно по ту сторону баррикад. Такая ситуация его развлекала и радовала. Он не знал ещё тогда, что Восленский не был по ту сторону баррикад. Наконец Юрий сказал мне: «Стой здесь и смотри. Сейчас он придёт». Восленский, точно, пришёл, получил журнал и, положив его в пластиковый пакет и оглядываясь, заспешил в свой номер. В тот день я больше не видел его.
Он ещё много раз подходил к Юрию. Расспрашивал об НТС, о Германии. Держался исключительно корректно. Больше всего польстило Юрию, что он сразу признал в нём русского. «Вы на Западе уже больше двадцати лет, а по вашему виду и поведению этого никак не скажешь. Остались русским. Вот и галстук у вас криво повязан». Сам Восленский был одет с иголочки, и с галстуком у него было всё в порядке.
Выделить за границей в толпе «своего» не составляло труда. Мы этим пользовались. Не обязательно было заходить в магазины, можно было ходить перед магазинами. Не было случая, чтобы мы не узнали «своих». Случались и курьёзы, как и в тот наш приезд. Вдруг увидели – идёт «наш». У Юрия рука рефлексивно потянулась к сумке с книгами. Но что-то мешало нам подойти к «нашему» и заговорить. Он шёл один, то есть не соблюдена была первая заповедь для выезжающих за границу: оставаться при группе. И одет был как швед. Мы долго шли за ним, гадая, наш он или не наш, пока он не разрешил наши сомнения следующим образом: он высморкался путём приложения к правой ноздре указательного пальца правой руки, а затем к левой – указательного пальца левой руки. «Наш!» – разом воскликнули мы. И не ошиблись. «Здравствуйте!» – «Здравствуйте!!» Его удивление было неописуемо: «Как вы узнали, что я русский?» – «Да своего сразу видно!» – «А я ведь в Швеции уже тридцать лет!»
Во мне тоже как-то – в Сингапуре! – признали «своего». Улицы там в торговом квартале кишели нашими моряками. Находившись с тяжёлой сумкой, в которой к тому времени уже лежала и книга Восленского «Номенклатура», прислонился я к стене. Прямо передо мной вырос «наш». Увидев меня, заулыбался. «Чего улыбаешься?» – «Да своего сразу видно!» – «Я не из ваших, я из Франкфурта. Из «Посева»». Улыбка тут же исчезла с его лица. Но два экземпляра «Посева» он взял. И, спрятав их за пазуху и оглядываясь, заспешил к кораблю.
…Второй раз я увидел Михаила Сергеевича Восленского лет двенадцать спустя во Франкфурте-на-Майне, где он, к тому времени получивший политическое убежище в Западной Германии, выступал с основным докладом на конференции журнала «Посев». Собрался весь цвет НТС. Доклад Восленского был очень профессионален, за что докладчик был вознаграждён продолжительными аплодисментами. Доклад не оставлял сомнений в том, что коммунизм в России рухнет через десять-пятнадцать лет. Он рухнул через десять лет.
И в заключение небольшая сценка. Сингапур. Я договорился с тремя моряками с корабля о встрече в выходной день. Все трое были из Владивостока и хорошо знали друг друга. Они пришли. Пригласил их в небольшой ресторан, заказали жареных цыплят и пиво. Я выложил на стол всё, что было в сумке, в том числе «Архипелаг Гулаг», «Размышления…» академика Сахарова и «Номенклатуру» Восленского. По какому-то поводу отлучился на пару минут. Вернулся, увидел их – и расчувствовался. Ребята, давно уже не видевшие пива и жареных цыплят, сидели, впившись глазами один – в трактат Сахарова, другой – в «Архипелаг Гулаг», третий – в «Номенклатуру». Вокруг ели и пили, а они были заняты делом для них гораздо более важным – знакомством с правдивым словом. Цыплята стыли, пиво стояло нетронутое. Я не стал им мешать: сидел рядом и молчал, пока они удовлетворяли свой духовный голод. Один из них потом написал мне, письмо пришло в «Посев». Оно у меня сохранилось. Он писал, что и «Размышления…» Сахарова, и «Архипелаг Гулаг» потрясли его, но ни одна из этих книг так не открыла ему глаза, как «Номенклатура», и просил, чтобы я помог ему бежать и как-то устроиться на Западе. Я не знал, что ему ответить, – и не ответил.
* * *
Удивительной силой обладает правдивое слово, потому-то и были во все времена гонения прежде всего на правдивое слово. И на его распространителей, которые обвинялись, как и положено, в клевете. Тут коммунистическому режиму и изобретать было нечего. Вот только со временем правдивое слово стало легче распространять, чем во времена, когда книгопечатание было ещё в далёком будущем. А потому усилились и гонения на него, на клевету. О том, что ходит по Сингапуру какая-то личность (следовало описание моей внешности) и «навязывает провокационную литературу» советским морякам, советские корабли оповещались радиограммой. Этим мне оказывалась большая услуга: меня узнавали и не боялись вступать в контакт.
В университетские годы сблизился я с проректором СГУ, преподавателем педагогики (он же читал нам курс психологии) И. С. Каменоградским. Диссертацию он защищал по теме из биологии. Времена были для этой науки трудные. Как раз была в разгаре кампания против вейсманизма-морганизма. Взглядам западных учёных-генетиков Вейсмана и Моргана противопоставлялись взгляды отечественных светил – садовода Мичурина и шарлатана Лысенко. Помню рассказ Каменоградского, как в таких условиях готовились диссертации. «Ты мог заказать любую книжку, но только по твоей теме. Проходило несколько недель или месяцев. Тебя вызывали, в твоём распоряжении была комната для работы. Везде ковры, все вежливы. В комнате ты был один, мог читать сколько угодно, но не имел права иметь при себе бумагу и карандаш. Если хотел цитировать, должен был заучить текст для цитаты наизусть».
Я знаю, что подумает на этом месте честный марксист: «Чудовищно! Но ведь это был не тот социализм, каким социализм должен быть; это был вообще не социализм!» Этот великолепный аргумент («великолепный» употребляю без иронии) стоило бы включить в специальный раздел марксистско-ленинской теории: «Способы теоретической защиты марксистско-ленинской теории ввиду реальных свидетельств её практической несостоятельности». Аргумент прост, овладеть им в состоянии всякий: «То, что вы говорите, чудовищная правда. Но эта правда не имеет никакого отношения к марксизму! Общество, построенное на принципах учения Маркса, будет гуманно и справедливо. Но то, что описываете вы, никакого отношения не имеет к гуманности и справедливости, а следовательно, и к марксизму».
Но ведь и национал-социализм был теорией земного счастья, по крайней мере для немецкой нации. Известно, как она была осчастливлена. Честный национал-социалист скажет: «Но какое отношение имеет случившееся к национал-социализму? Национал-социализм – это научная идеология, сообразно с которой немецкий народ в середине двадцатого века должен был стать самым счастливым в мире. Этого не случилось. Но разве можно винить в этом национал-социализм? То, чему мы стали свидетелями, произошло по вине тех, кто исказил наше учение».
Пусть спорят между собой честный марксист и честный национал-социалист! Может быть, в их споре родится истина?
6
И. С. Шкловский. Мемуары. Эшелон. Глава «О людоедах». http://lib.ru/MEMUARY/SHKLOWSKIJ/eshelon.txt_with-big-pictures.html#