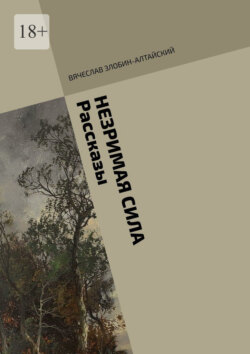Читать книгу Незримая сила. Рассказы - Вячеслав Злобин-Алтайский - Страница 2
Записки из малосемейки
Клин клином
Запись 1
ОглавлениеЗовут меня Тихон Скворцов. Я озабочен, но чем именно – не понимаю. С недавних пор назойливо стало чесаться ухо и появилась дурная привычка то и дело теребить его. Как только внимание к окружающей жизни теряется, так приступ чесотки одолевает нешуточно.
Казалось бы, ухо вполне стандартное, не то что, например, губы. Особенно нижняя. Смотрел я критически в зеркало и размышлял: «Губа эта несуразная, толстая и как бы вывернутая наизнанку, отвисла, как колбаска охотничья. Если чему и чесаться было, так только ей. Она ведь чувственная, а ухо – что? Совсем как пластинка, почти неодушевленная».
Сидеть в малосемейке этой серой скучно и душно. И портьеры на окнах – одно название: грязные, почти дырявые. Руками моими собственными истерты – реликвия, да и только. То отдергиваешь, то задергиваешь их по вечерам, чтоб нос длинный свой иные в окно не совали. Мой первый этаж – горизонт сглаза. А заглядывают – кто по инертности, а кто и любопытства ради. А что забавного можно у Тихона в комнате обнаружить? Все одно без штанов-то не хожу, а если так, то и смысла в подглядках нет ни малейшего.
Пока рассуждаю о порывах этих бездельников, так и ухо чесаться перестает, будто мы вместе с ним задумались, а как только останавливаюсь в мыслях, опять за мочку хватаюсь. И чем больше ее тереблю, тем больше хочется.
Так что с такого рода болезнью бороться можно, лишь непрерывно философствуя.
Вот лежит себе в углу, возле дивана, дворняжка моя Прасковья, глазами хлопает, глядя преданно, даже заискивающе, и повторяет действия хозяина. Только не передней, а задней лапой чешет ухо свое, да еще жалобно порой повизгивает, будто когтями рвет. А что взвизгивать-то, я же по умолчанию делаю такое…
Хорошая все же собака у меня – лохматая, с белыми бровями, только бестолковая. Вечно ей жрать хочется – прямо прорва какая-то. Одна эта забота ее только и одолевает. Как жить-то так можно, ко всему остальному быть безучастной? Неужели нажраться да почесаться – в том и есть смысл жизни? А если взять еще во внимание ее привычку проситься на улицу, чтоб избавиться от лишних калорий, то и весь смысл собачьей жизни теряется окончательно. Ломоносов был не дурак, когда сказал: «Сколько прибыло, столько и убыло». Тогда зачем она, такая жизнь-то? Сидела бы только да заискивала глазами, думала о вечном и не делала бы всяких непотребных движений лапами да языком. Если бы не выгуливать, то смысл существования ее был бы глубокий и сосредоточенный, и я попусту не отвлекался бы от своих мыслей.
Вот опять: только мудрая мысль в очередной раз мелькнула, не задержавшись, так сразу рука к мочке уха потянулась. Как с этой напастью бороться, наверное, одному Богу ведомо…
Заболел я параллельно эпистолярным жанром. Это чтоб одна болезнь извела другую. Этот жанр, на мой взгляд, очень даже полезный и непременно приводит меня к глубокомыслию. То есть этим клин клином вышибается.
Еще в начале шестидесятых годов прошлого века мой брат Митрий, в первых классах обучаясь, писал металлическим пером, макая его в чернильницу. Все было по уму: тем самым отрабатывался красивейший почерк, скажу я вам. Вот и я: если заниматься эпистолярией (это я так новую болезнь свою назвал), то уж непременно стоит делать все красиво, чтоб душа пела. А подтолкнуло меня к этой красоте наличие коробки перьев, оставшихся в наследство от брата.
Черную тушь в стеклянном флакончике я купил заблаговременно, предчувствуя свою потребность к творческой жизни. Тогда я еще не думал, что с чесоткой бороться мне этаким макаром придется.
Мой стол, довольно шаткий и скрипучий, располагался перед окном. Думаю, по своему объему и скрытым возможностям он нисколько не уступал пушкинскому. На левой кромке стола стоял светильник – горбатый, с тонкой шеей, пучеглазый, с эллипсной головой, как у кобры. Стеклянный флакон, наполненный тушью по самое горло, занимал место чуть правее центра стола – я же правша. Рядом высилась стопка бумаги формата А4. Хочу заметить: чтобы мои рукописи приобрели историческую значимость, хотел я вместо нее приобрести что-то вроде папируса, но, как оказалось, Египет нам его не поставляет. Решил тогда изыскать хотя бы пергамент. Но мне сказали, что тот уже давно снят с производства. Поэтому пришлось воспользоваться, к моему безграничному сожалению, плодами достижений нынешней промышленности.
Взял я карандаш – яркий, оранжевый, чтоб глаз при письме радовался – и прилепил черное металлическое перо к нему на изоленту. Сначала использовал натуральную тряпичную ленту, но пальцы стали к ней липнуть. Пришлось покупать синтетическую – синюю. Перьевую ручку эту уложил на горлышко чернильницы, положил перед собой белоснежный лист бумаги, даже дыхание от волнения сперло. Слышал я от одного писателя, как млеет он от чистого листа, прежде чем начать его вымарывать. Чувства родственные с ним испытал и я при этом. На мгновение задумался, макнул перо в тушь и принялся по бумаге царапать. Царапины получались хоть куда – красивые, выразительные, и это еще больше вдохновляло. А плоды болезни эпистолярной предназначались моей сестричке. Для меня она оставалась самой ближайшей подругой и единственной.
«Дорогая моя сестрица Марусенька! – начал я свое творчество. – Сроду не писал тебе посланий, да писанных еще пером. В целом жизнь моя протекает, как всегда, обыденно, полусонно. Одна новость: сперва Прасковья начала чесаться, а теперь и я с ней заодно.
Эти перемены – глубокие, но отнюдь не понятные – подвигают меня к умственным изыскам и интенсивному общению. Мыслительные процессы в моей голове побуждают меня неустанно и непримиримо бороться с этой болезнью моей. Как только я перестаю философски соображать, так сразу страсть нападает чесоточная. Однако же ты не переживай – чешется только мочка уха моего, и отчего-то одна и та же. Вроде бы и страшного ничего нет, на первый взгляд, но как же это явление озадачивает и нервное напряжение при этом вызывает! И главное – в этой болезни обнаруживается то, что приходит ей временный конец в то самое мгновение, когда я думаю, мыслю или говорю. Так что чем дольше я объясняюсь с тобой, тем легче мне становится переносить все ее невзгоды.
Все же, как ни крути, милая Марусенька, а стареть-то мы точно стали. Вот и болезни одолевают помаленьку… А помнишь, как любо было нам по малолетству играть в песочнице? Как мы друг дружку обожали. Как-то ты невзначай с размаху треснула меня лопаткой по затылку. Я удивился и взвыл, но в долгу, моя милая, не остался – вбросил в глаза твои озорные песочку. Боже мой, как ты громко и по-дурацки ревела, а я неистово плевался в твою сторону и дразнил тебя. И все же мы любили друг дружку – это медицинский факт.
А еще помнишь, моя милая, как в партизан мы играли, когда снегу целый ворох повсюду выпал – по чужим огородам ползали. Как забавно нам было думать про отвагу свою и представлять себя народными мстителями, а хозяев огородов – немцами. Не это ли были захватывающие дух острые ощущения?! Вспоминаю, как собака одна дикошарая, соседей Волковых, на нас накинулась. Испуг был колоссальнейший, безмерный. А я-то об твоей душеньке сразу позаботился – прикрылся тобой, чтоб воспитывать тебя отважной. А ты возьми да отвернись от глаз собаки, не устояла – вот тогда она тебя на зуб и попробовала. А я кричал самоотверженно, чтоб ее перепугать. И все мы втроем тогда орали, каждый о своем. Еще я по старшинству тогда подзатыльник получил от «немца», от Волкова-то. Помнишь? Ты-то от укуса все ревела, а мне от такой боевой разведки по огородам ох как весело было. И ты от избытка любви неделю ненависть ко мне испытывала. А я на тебя был не в обиде…
А помнишь, как влюбилась ты в этого олуха, ничтожество и пигмея – Герасима, Герку. Жирный такой, неповоротливый и пузатый всю жизнь был. Царствие ему Небесное: отмучился, прибрала его земля-матушка. А ты об нем не печалься – был такой в твоей жизни и вышел весь, не велика в том беда. Поди, какой старичок уже прибился к тебе ныне, чтоб любовь до конца дней своих с тобой вместе вымучивать. Поощряю, если так! Разумное дело, если полюбовное.
Писать на сегодня, пожалуй, завершаю. С пером что-то сталось – двоит и марает. Сама видишь.
Ты, Марусенька дорогая, не беспокойся. Теперь, пока не пройдет эта чесотка моя вероломная, буду писать тебе и радовать. Может, и не раз на дню. У меня в том потребность очевидная и жизненно необходимая. Вышибать болезнь только таким методом и надо, философствуя денно и нощно.
Целую тебя ненаглядную и поминай как звали!
Твой любящий старший брат и единственный».
Сижу теперь, попеременки с Прасковьей почесываюсь и ищу основательный повод, чем отвлечь свою назойливую болезнь, каким новым умственным занятием ее остановить.