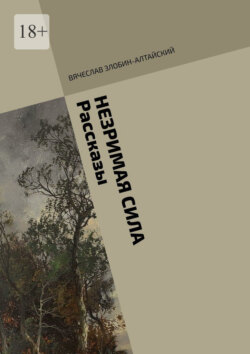Читать книгу Незримая сила. Рассказы - Вячеслав Злобин-Алтайский - Страница 6
Записки из малосемейки
Невидимая рука рынка
Запись 5
ОглавлениеКогда Савелий кричал взахлеб о заоблачных перспективах жизни и свергал со своими соратниками в городе все подряд власти, тогда только я и осознал радужный ритм своего существования. Никогда мне не было так приятно жить, как в прежние дореформенные времена. Я уже отмечал, что душу мне тогда грело: тот же кузик, к примеру, который обыденно и весело чирикал на дереве… А сейчас остались одни воробьи – жиды меркантильные. И речка напротив в то время лениво журчала, широким зеркалом сверкая на солнце. А теперь зеркало это сморщилось; мало того, сама пойма реки сузилась до неприличия. И метла моя в ту пору по-другому звенела по асфальту, как-то жизнерадостно, с припевом. Тогда она была из упругой ветлы, а теперь из каких-то мертвых хлыстиков синтетических. Даже Прокоп сейчас стал неистово и зло материться, когда в подвале беспорядки устранял. Все те простые радости жизни, которых сейчас нас лишили, доставляли мне удовольствие истинное.
А как душевно было в ту пору посидеть и поразмышлять о насущном с единомышленником! С Прокопом, к примеру. Как он любил пиво попить тогда! Казалось, оно было куда вкуснее, чем сейчас, потому как было его море разливанное, почти дармовое, а пенилось так же бархатно, как мыло в бане на вехотке. Хоть плотность его жиже была, но пена запашистее, и потреблялось оно со смаком и толком. Кроме меня, всякий дворник почитал за счастье посидеть с канистрой в тенечке и духоподъемно поалкать его. Лавок со столиками было тогда в каждом дворе полно, и стояли они под каким-нибудь разлапистым кленом зазывающе. Это позже их повсюду повыдергивали и разломали обалдевшие перестройщики.
– Сего дня это столпотворение я штурмовал при помощи племянника, – горделиво сообщал мне Прокоп об очереди за пивом. Он сидел, вальяжно раскинувшись на лавке в тенечке, и посасывал прямо из горлышка канистры свою пятилитровую порцию.
– Скучно стоять на обочине, в хвосте, – справедливо отметил Прокоп. – Запустил его по головам с канистрой своей. Это куда сподручнее и скорее. Всегда так делаю. А как иначе, если с флягами лезут и по тем же головам топчутся. До морковкиной заговни не дождешься своей доли.
Изредка отплевываясь от пены, он продолжал:
– Ежели б я племяша под брюхо не подпирал и не передал кумовьям моим в очереди – затоптали б, как кони, бедолагу. А так, когда сообща, оркестром – умиление одно…
А чего тогда от жизни надо-то было: посидеть, поразмышлять по-дружески. Тихо, неспешно катилось время и, что особенно важно, – душевно. От того и удовольствие большое проистекало.
Чем же было Савелию не мило то времечко золотое?
А после что настало? Взять, к примеру, опять-таки моих брательников.
Просвистели бури революции, распродали нехристи страну. Савелий все это время хоть и мнил себя важным общественником, а как был винтиком, так им и остался. Как был помощником мастера в ЖЭКе, так и остался руководить Прокопом. Как была интеллигенция вшивой, так осталась и поныне – ни богатства, ни ума. Неужто ради амбиций вся кутерьма начиналась? Аж такую страну с фундамента крепкого сдвинули? Вот же силищу какую выплескивает гонор из людей!
А что потом сталось с жинкой Савелия? Как только у него запал революционный поубавился, так сразу она стала его распинать. Делала это непременно коварно и с иезуитской изощренностью – душила морально и даже с матерками.
Уникальные преображения в житейских повадках моих снох я вижу. Одна, неприступная, интеллигентная до замужества, незавидно упала с поэтического олимпа, вместо стихов наполняя себя желчью и водкой. Превратилась в сухую занудную фурию. Другая – из простой курицы-наседки, одевшись в приличные наряды, – заимела манеры, и как бы, на первый взгляд, ум даже проклюнулся. Произошло это не сразу, доложу я вам.
Муж ее Митрий из бизнеса челночного, базарного перебрался в местную кочегарку – управляющим. Вскоре, не будь дураком, брат успешно переключился на муниципальный уголь. Наладил новую форму коммерции – родил какую-то «дочку» и стал торговать им втихую. А если по-нашенски, по-рабочекрестьянски – воровал, чертяка.
Когда его уличный бизнес рухнул, Варвара подзабыла свои барские замашки и изыски – стала было сникать. Но когда Митрий развернулся с кражей муниципального угля, вновь в ней воскресла тяга к благородным манерам.
К тому времени все трое их сыночков уже переженились, и родители дурью начали маяться. Вроде как уважаемыми стали в верхних кругах местного общества. Они продали кооперативку свою трехкомнатную и заместо ее выстроили огромные хоромы с пятью залами и тремя опочивальнями. Супружеское ложе занавесили со всех сторон, как в султанской палатке, шторками в золоченой оправе, чтоб никто не подсматривал их глубокие и цветные сны. Обтянули бархатом все комнаты, на стенах, в нишах с орнаментом, прилепили картины. А изображения на них все срамные, полуголые, особливо женские. Уж больно пузатые и титястые. Я, конечно, сторонник иной раз подержаться за такие увесистые достоинства, но зачем же их на публике так открыто вываливать? Если для себя эту эротику навели, то хоть шторки бы навесили на них и, когда прижмет, сами тайно подсматривали бы.
А в целом, если судить здраво, зачем такие излишества умному человеку? Митрию-то точно они не к душе, скорее по барабану были, а вот у Варвары смыслы иные складывались: это же крик моды. И она, как в плену, находилась в этом «крике», который на зависть другим выставляла. Себя-то она, думаю, не выносит на публику без нижних «подпруг». Сама в халатиках разных богатых и разноцветных по всему дому носится и частенько с бокалом красного «Шевалье». И гостям при этом сообщает, как за пятнашку «косых» любит его всей душой. Все ее чрезмерности от пустого мировоззрения. А откуда ему взяться, если мозгов в голове – кот наплакал.