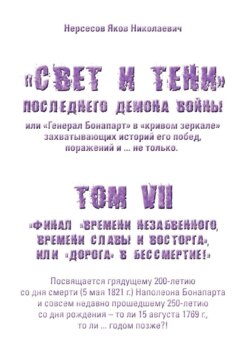Читать книгу «Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том VII. Финал «времени незабвенного, времени славы и восторга», или «Дорога» в Бессмертие! - Яков Николаевич Нерсесов - Страница 7
Часть Вторая
Последний поход «маленького капрала»!
Глава 4. «Генерал Трибуны» и «Организатор Побед»
ОглавлениеОни не входили «в обойму» генерала Бонапарта, они не были всецело (либо чем-либо) обязаны императору Наполеону. Зато, когда сверхамбициозный «корсиканский авантюрист» попытался было «Повернуть Ход Истории Вспять», они не стали юлить или склочничать. Оба Встали Под Его Мятежные Знамена: одному этот шаг стоил Жизни, другому – Забвения…
…Маршал Франции (19 мая 1804 г.), граф империи (2 июня 1815 г.) и пэр Франции (2 июня 1815 г.) Гильом-Марк-Анн (Энн) Брюн, прозванный «Спасителем Батавской Республики» (Le sauveur de la Rеpublique Batave) (13.03.1763, Брив-ла-Гайард, Лимузен, департ. Коррез – 2.08.1815, Авиньон, департ. Воклюз) был личностью яркой, умел производить запоминающееся впечатление и делать результат, правда, в меру своих возможностей.
Сын адвоката Этьена (Стефан?) Брюна и его супруги Жанны де Вьельба (Вельбан) из мелкопоместных дворян, он окончил Гуманитарный колледж в Бриве, учился на юридическом факультете Парижского университета, изучал право. В связи с разгульным образом жизни и возникшими в связи с этим финансовыми трудностями оставил учебу и порвал с семьей. Поступил рабочим в типографию, вел жизнь типичного парижского люмпен-пролетария.
С началом Французской революции знакомится с Маратом, подружился с Демуленом и Дантоном, занялся журналистикой, затем основал журнал, издававшийся до народного восстания 10 августа 1792 г., завершившегося свержением монархии. Вступил в Национальную гвардию Парижа, где быстро выдвинулся благодаря своим организаторским способностям и ораторскому таланту, был избран капитаном. Имел репутацию одного из наиболее радикальных и решительных парижских санкюлотов. Зажигательным речам высокого с пылающим взором брюнета, гневно клеймившего спекулянтов и богачей, призывавшего народ к самой беспощадной борьбе с «приспешниками тирании», восторженно внимали уличные толпы. Снискал славу пламенного народного трибуна. Был одним из предводителей знаменитой народной демонстрации на Марсовом поле в 1791 г., которая была расстреляна войсками по приказу генерала Лафайета, а сам Брюн арестован и брошен в тюрьму. Когда среди народа распространился слух, что враги революции решили уничтожить Брюна и его жизнь в опасности, в дело вмешался Дантон и помог добиться освобождения Брюна. После этого Брюн сблизился с Дантоном и стал одним из самых активных его сторонников, был одним из основателей и наиболее влиятельных членов клуба Кордельеров. В славные сентябрьские дни 1792 года (первая победа французской революционной армии над объединенными силами интервентов в сражении при Вальми) благодаря протекции Дантона получил 7 сентября место Главного комиссара военных передвижений в Военном министерстве, был направлен Конвентом в Северную армию и уже в октябре произведен сразу в полковники. Затем некоторое время находился в Нормандии, где республиканские войска вели борьбу с роялистскими мятежниками, возглавляемыми генералом Пюизе. После их разгрома 6 августа 1793 г. возвратился в Северную армию. Произведенный 18 августа 1793 г. в бригадные генералы, отличился в сражении при Ондскоте (7—8 сентября 1793 г.), в ходе которого объединенные силы Северной и Арденнской армий разгромили англо-австрийских интервентов. Осенью 1793 г. Комитет Общественного Спасения поручил Брюну подавить контрреволюционный мятеж в Жиронде. Это поручение он выполнил чрезвычайно жестко и быстро.
В декабре 1793 г. назначен членом Военного комитета Конвента, фактически выполнявшего функции Военного министерства. Когда Дантон был арестован, то сторонники Робеспьера опасались, что Брюн бросится на выручку своего друга и покровителя, но тот даже и не подумал об этом, попросту отвернувшись от своего вчерашнего кумира. Переметнувшись на сторону Робеспьера, Брюн благополучно пережил кровавые дни якобинского террора.
После переворота 9 термидора (июль 1794 г.), положившего конец якобинской диктатуре, Брюн сразу же присоединился к победителям, отмежевавшись от своих друзей-якобинцев. С 13 апреля 1795 г. служил в 17-й дивизии в Париже и под командованием генералов Барраса и Бонапарта участвовал в подавлении роялистского мятежа 13 вандемьера (5 октября 1795 г.),
30 октября 1795 г. совместно с Луи-Мари-Станисласом Фрероном был направлен с карательной миссией на юг Франции – в Марсель, чтобы арестовать роялистских убийц (107 революционеров были убиты «Ротами Солнца» в тюрьме Сент-Жан в Марселе 5 июня и в Экс-о-Провансе 11 мая), а затем помог Директории подавить волнения в Гренельском лагере.
28 сентября 1796 г. переведён в Итальянскую Армию, командуя бригадой в составе дивизии генерала Массена отличился при штурме Вероны, в сражениях при Арколе и Риволи, 17 апреля 1797 г. произведён в дивизионные генералы, 24 апреля 1797 г. возглавил дивизию генерала Массена, а 17 августа 1797 г. – дивизию генерала Ожеро, заменив его на этом посту поскольку тот убыл в Париж. После заключения Кампоформийского мира (17 октября 1797 г.) назначен 11 января 1798 г. послом в Неаполь.
С 27 января 1798 г. командовал объединёнными Итальянской и Рейнской Армиями, вторгшимися в Швейцарию. Не встретив особого сопротивления, они овладели Берном. Оккупировав Швейцарию, Брюн основал там Гельветическую республику. Вскоре выяснилось, что он «забыл» составить опись захваченных его войсками в этой стране трофеев.
Назначенный затем командующим Итальянской армией Брюн подавил восстание в Риме и волнения в Северной Италии, заключил мирный договор с Сардинией, принудив сардинского короля уступить французам Туринскую цитадель (3 июля 1798 г.).
9 января 1799 г. возглавил французские войска, расквартированные в Батавской Республике, перед которыми стояла задача отразить вторжение англичан и русских в Голландию.17—19 сентября 1799 г. разгромил объединенную англо-русскую армию при Бергене и заставил герцога Йорка в октябре 1799 г. очистить Нидерланды.
Победоносная Голландская кампания 1799 года принесла Брюну широкую известность и выдвинула его в число наиболее прославленных полководцев Французской республики.
Тем временем к власти во Франции в результате государственного переворота 18 брюмера (ноябрь 1799 г.) пришел генерал Наполеон Бонапарт. В числе других командующих армиями Брюн приветствовал его приход к власти. 27 ноября 1799 г. сложил с себя командование, возвратился в Париж и 25 декабря 1799 г. назначен членом Государственного совета. Вслед за тем 14 января 1800 г. последовало назначение Брюна командующим Западной армией, во главе которой он подавил ряд очагов сопротивления роялистов в Вандее и положил тем самым начало к прекращению многолетней кровопролитной гражданской войны, разорившей до предела эту мятежную провинцию.
После Вандеи Брюн принял участие в Итальянской кампании 1800—01 гг., возглавив с 10 июня 1800 г. 2-ю Резервную армию в Дижоне. 13 августа 1800 г. он заменил генерала Массену на посту командующего Итальянской армией. Его действия в Италии были в целом успешными.
В декабре 1800 г. Брюн перешел реку Минчио (Минчо), разбил в ряде боев австрийцев, овладел Виченцей и Роверето, а затем развернул наступление на северо-восток на австрийские войск фельдмаршала Бельгарда, к австрийской границе, но действовал при этом крайне осторожно. 16 января 1801 г. в Тревизо заключил с австрийцами перемирие, по которому несколько крепостей, еще удерживаемых австрийцами в Северной Италии, переходили под контроль французов, чем способствовал заключению Люневильского мира.
По заключении в 1802 г. этого мира возвратился в Париж, участвовал в работе Государственного совета, где представил на утверждение мирный договор с Неаполем.
В том же году (11 сентября) назначен послом в Турцию, где вначале успешно противодействовал английскому влиянию, но затем допустил ряд промахов и 17 декабря 1804 г. был отозван.
Наполеон, став императором, высоко оценил заслуги Брюна перед Францией, наравне с другими видными военачальниками осыпал его почестями и наградами. Еще в 1803 г. Брюн был награжден орденом Почетного легиона. В 1804 г. Наполеон пожаловал ему Командорский крест орд. Почетного легиона, 19 мая 1804 г. произвел в маршалы Франции (в списке удостоенных этого высшего воинского звания имя Брюна стояло 9-м, после Сульта) и, наконец, удостоил высшей награды наполеоновской Франции – Большого креста ордена Почетного легиона (февраль 1805 г.).
По возвращении из Турции Брюн некоторое время (с 2 сентября 1805 г.) занимал должность начальника Булонского лагеря, где шло сосредоточение армии, предназначенной для вторжения в Англию.
С началом кампании 1805 г. назначен командиром I-го резервного корпуса (сентябрь 1805 г.). 15 декабря 1806 г. Наполеон назначил Брюна генерал-губернатором Ганзейских городов со штаб-квартирой в Гамбурге. С конца апреля 1807 г. командовал наполеоновскими войсками (Наблюдательным корпусом Великой Армии), действовавшими против шведов в Померании. Нанеся им ряд поражений, Брюн в сентябре 1807 г. принудил к капитуляции последний оплот шведов в Померании – крепость Штральзунд. Шведы были вынуждены подписать соглашение об эвакуации своих войск из Германии. С целью урегулирования некоторых положений этого соглашения Брюн имел продолжительную встречу со шведским королем Густавом IV, во время которой последний без каких-либо обиняков предложил маршалу предать своего императора и перейти на сторону Бурбонов. Брюн ответил отказом, но способ, которым он отклонил это экстравагантное предложение, вызвал подозрение Наполеона. Еще до этого случая большое недовольство императора вызвало недостаточно строгое соблюдение Брюном условий континентальной блокады (снисходительное отношение к английской контрабанде и другие попустительства). Одновременно на его стол лег компромат на маршала, уличавший его в потворстве казнокрадам. Не случайно вскоре после этого генерал-губернатор Ганзейских городов был упомянут Наполеоном в числе других военачальников и крупных чиновников, названных им «ненасытными грабителями». И, наконец, император просто пришел в ярость, когда ему доложили, что, составляя конвенцию по условиям которой Швеция эвакуировала свои войска из Померании и передавала французам о-в Рюген, Брюн упомянул лишь французскую и шведскую армии в качестве договаривающихся сторон без всяких ссылок на «его (т. е. Наполеона. – Авт.) императорское и королевское величество», т.е. вел переговоры от имени «Французской республики», а не «Его Императорского Величества» (Sa Majestе Impériale)! В этом Наполеон усмотрел сознательное умаление Брюном его достоинства как главы государства и верховного главнокомандующего. Брюн попал в немилость и 27 октября 1807 г. был снят со всех занимаемых им постов. Обиженный маршал уехал в Париж и подал в отставку. Его просьба без промедления была удовлетворена Наполеоном.
Оказавшись не у дел, Брюн ушел в частную жизнь, на целых 7 лет уединившись в своем поместье Сен-Жюст, незадолго до этого подаренном ему императором. В Париж, ко двору, он приезжал только в дни официальных празднеств и обязательных визитов.
После падения Наполеона в 1814 г. он перешел на сторону Бурбонов, но был принят ими довольно прохладно. Пожаловав ради приличия Брюну орден Св. Людовика, король Людовик XVIII, тем не менее, в приеме на службу ему отказал.
Когда в 1815 г. Наполеон возвратился с о-ва Эльба, Брюн примкнул к нему. Император принял его на службу, назначив 16 апреля командующим 8-м военным округом (Марсель) и военным губернатором Прованса. С началом кампании 1815 г. (17 апреля) Брюн вступил в командование IX-м Варским Наблюдательным корпусом (Обсервационный корпус на реке Вар), прикрывавшим границу с Италией. Активных боевых действий в ходе этой кампании возглавляемый Брюном корпус не вел, и маршал ничем особенным как военачальник себя не проявил. Но во время этого кратковременного правления Наполеона он преследовал роялистов с той же энергией и беспощадностью, как и в те времена, когда был ярым якобинцем. За что был 2 июня пожаловал в графы империи и пэра Франции.
После Второго отречения Наполеона объявил себя сторонником короля, но долго медлил со сдачей Тулона, где, как и в Марселе, поддерживал строгий порядок и жестко пресекал любые попытки противников Наполеона дестабилизировать обстановку. Это возбудило против него ненависть пророялистски настроенных слоев общества.
В конце июля 1815 г., сложив командование войсками, Брюн отправился из Тулона в Париж. 2 августа он прибыл в Авиньон, который уже полмесяца находился во власти бесчинствующей черни, симпатии которой находились явно на стороне роялистов. Узнав о прибытии в город маршала, возбужденная толпа собралась у постоялого двора, где он остановился отдохнуть. Ее возбуждение еще более усилилось, когда разнесся пущенный роялистами слух о причастности Брюна к «Сентябрьской резне» (Massacres de septembre) 1792 г., в частности, в убийстве принцессы Мари-Терезы-Луизы де Ламбаль (это была провокация, т. к. на самом деле Брюна в Париже тогда не было). Но на этот раз маршала все же не тронули, и он смог поехать дальше. Однако, как только его карета миновала городскую заставу, следовавшая за ней толпа заставила кучера повернуть обратно в город. Когда Брюн с 2 адъютантами покинул карету и вошел на постоялый двор «Пале-Рояль», его ворота были сразу же закрыты. Но толпа продолжала прибывать, она требовала расправы над маршалом. Войск в городе не было, но префект и мэр с опасностью для собственной жизни в течение почти 5 часов тщетно старались спасти Брюна, уговаривая толпу разойтись. Наконец, ближе к ночи наступила развязка. Разъяренная толпа, подстрекаемая роялистами, выломала ворота, несколько человек ворвались в комнату, где находился маршал, и расстреляли его в упор.
Трижды орденоносцу ор. Почетного Легиона (Кавалер – 2 октября 1803 г., Высший Офицер – 14 июня 1804 г., Большой Орёл – 2 февраля 1805 г.) было 52 года и почти четверть века из них он отдал служению Отечеству и армии, пройдя путь до генерала всего лишь за 4 года, а до маршала Франции (причем, первого призыва, т.е. в числе 18) – за 15 лет.
Свою смерть Брюн встретил достойно, как и подобает старому солдату. Тело маршала подверглось надругательствам. Беснующаяся толпа протащила его по улицам, а затем обезображенный до неузнаваемости труп сбросила с моста в реку Рона. В 20 км ниже по течению реки тело маршала выбросило на берег. Его нашли случайные прохожие и присыпали песком. Через 2 месяца труп обнаружил один садовник и похоронил в находившейся неподалеку канаве. Лишь через 3 года вдове Брюна удалось получить останки мужа. Но похоронить их она не решилась, так как злоба роялистов была настолько велика, что уберечь могилу от надругательств не представлялось возможным. Поэтому многие годы тело маршала пролежало в одной из комнат замка Сен-Жюст. Оно было предано земле только в 1829 г., когда скончалась жена маршала и тогда супруги вместе обрели вечный покой на местном кладбище. В 1841 г. в родном городе маршала ему был воздвигнут памятник.
* * *
Неистовый якобинец и любимец парижских санкюлотов, Брюн посвятил себя делу защиты Революции с первых же ее дней. Отважный и предприимчивый офицер, а затем генерал революционной армии, герой многих сражений, он особенно прославился в годы Революционных войн Французской республики, когда командовал бригадой в Северной, а затем – в Итальянской армиях. Неплохо Брюн проявил себя и как командующий армией, особенно в Голландской кампании 1799 г., которая принесла ему заслуженную славу. Эта победоносная кампания явилась звездным часом в его военной карьере. Благодарная Франция тогда по праву наградила его почетным титулом «Спаситель Батавской республики». Довольно успешно Брюн командовал армиями также в Швейцарии, Италии и Вандее. Вместе с тем необходимо отметить, что на завершающем этапе Итальянской кампании 1800—01 гг. он допустил непростительную для полководца оплошность, поставившую его армию на грань поражения. Избежать этого удалось только благодаря пассивности обескураженного ранее понесенными поражениями противника, который упустил возможность воспользоваться выгодным моментом и разгромить армию Брюна, разбросавшего свои силы по частям, а также помогла оперативность подчиненных Брюну генералов, прежде всего Пьера Дюпона (печальнознаменитого «Байленской капитуляцией» в 1808 г.), которые своевременно исправили ошибку своего главнокомандующего. Но эта ошибка Брюна не ускользнула от пристального внимания Наполеона, который сразу же после завершения этой кампании под благовидным предлогом отстранил Брюна от командования и больше никогда уже не доверял ему командовать армейскими объединениями. Но, как бы там ни было, свою боевую репутацию Брюн не запятнал ни одним поражением, ни одного крупного сражения он не проиграл: случай, везение, счастливое стечение обстоятельств и т. п. – это уже другой вопрос, но факт остается фактом. Тем не менее Наполеон, всегда ревниво относившийся к чужой славе, не особенно жаловал Брюна как военачальника, хотя тот и был одним из его сподвижников еще во времена Итальянского похода 1796—97 гг., когда Наполеон впервые заявил о себе как полководец. Более того, Наполеон вообще был весьма невысокого мнения о военных способностях Брюна. Уже будучи на острове Св. Елены, он дал ему такую характеристику: «Брюн имел известные заслуги, но в общем был скорее генералом трибуны, нежели внушающим страх воином». Скажем прямо, данная оценка не совсем объективна, тем более что там же, на острове Св. Елены, Наполеон, коснувшись в одной из бесед личности Брюна, высказался уже в несколько ином плане. А именно он высказал свое сожаление, что не поручил этому человеку поднять в 1814 г. на борьбу с подступившим к столице врагом рабочих парижских предместий. Значит, Брюн способен был сделать то, что было не под силу другим военачальникам. Поднимать и увлекать за собой массы – это тоже искусство, которое дано далеко не каждому.
В годы империи большой полководческой карьеры, в отличие от многих других наполеоновских маршалов, Брюн не сделал. Этому, по всей вероятности, помешал излишний демократизм бывшего якобинца, не сумевшего приспособиться к новым условиям, и прохладное к нему отношение самого Наполеона. Хотя, надо отметить, в первые годы своего правления Наполеон относился к Брюну вполне благожелательно. Свидетельством тому являются те высокие посты, которые он доверял Брюну, награды и почести, которых был удостоен этот военачальник, и которые по своему достоинству были ничуть не ниже полученных другими сподвижниками Наполеона. В числе других маршалов империи Брюн получил в командование один из корпусов Великой армии, во главе которого успешно действовал в 1807 г. в Померании. Эта кампания, несмотря на недостаток сил (главные силы Наполеона в это время находились в Восточной Пруссии и Польше), была проведена Брюном успешно и завершилась завоеванием французами шведской Померании (эту заслугу Брюн разделяет с маршалом Э. Мортье).
Однако присущая Брюну беспринципность, когда он с легкостью и не раз менял свои политические убеждения и пристрастия, привела, в конце концов к девальвации его моральных принципов. В годы Революционных войн Брюн слыл строгим блюстителем республиканской морали. Известен случай, когда он приказал расстрелять перед строем солдата только за то, что тот в отсутствие хозяев зашел в дом, чтобы напиться воды. И вот через какой-то десяток лет этот пламенный революционер и убежденный демократ, бравирующий своей неподкупностью, становится, по всей вероятности, небескорыстно злостным покровителем всякого рода проходимцев, казнокрадов и контрабандистов. Такое нравственное перерождение бывшего сподвижника вызвало взрыв негодования даже у Наполеона, обычно весьма снисходительно относившегося к человеческим слабостям. Приговор императора был суров, но справедлив. Не исключено, что на примере Брюна он решил преподать урок всем другим высшим военачальникам, склонным к подобного рода поступкам. А в качестве «козла отпущения» им был избран маршал, менее других ему симпатичный.
В целом же как военачальник Брюн был ничем не хуже и не лучше других наполеоновских маршалов, во всяком случае, большинства из них. Вместе с тем необходимо отметить, что опыта командования армейскими объединениями и самостоятельного решения крупных оперативно-стратегических задач у него было значительно больше, чем у многих из них. Это в полной мере учитывал и Наполеон, поручавший Брюну, как правило, командование на самостоятельных операционных направлениях (Вандея в 1800 г., Италия в 1800—01 гг., Померания в 1807 г. и, наконец, итало-французская граница в 1815 г.). И каждый раз поставленную перед ним задачу Брюн выполнял успешно. Однако проявить свои воинские дарования в рядах Великой армии под предводительством самого Наполеона Брюну не довелось ни разу. Поэтому в исторических трудах, посвященных эпохе наполеоновских войн, имя Брюна в сравнении с другими, более знаменитыми маршалами Наполеона, встречается довольно редко, но в анналах военной истории оно сохранилось и занимает свое место. Один из парижских бульваров, увековечивших память о героях великой эпопеи Первой империи, носит имя маршала Брюна.
Это, так сказать, «фактологически-аналитическая версия» биографии маршала Брюна-«Генерала Трибуны». Тогда как «развернуто-беллтризированный вариант» позволяет оценить некоторые ключевые моменты сквозь призму «света и теней» Спасителя Батавской Республики».
<<…Несмотря на то, что дядя будущего маршала Франции-Мари был военный, а крестный отец являлся братом губернатора Дома инвалидов, отец – Этьен Брюн, работавший в городском суде, надеялся, что сын все-таки пойдет по его стопам и станет чиновником городского магистрата. Когда мальчик подрос, его направили на учебу в Париж. Поскольку французская столица заслуженно слыла в ту пору центром общеевропейского соблазна и разврата, то наш юнец быстро осознал, что терять времени даром в его возрасте, когда все в новинку и «море кажется по колено» нет смысла. Зубрежка параграфов классического права осталась далеко в прошлом, а Гильом стремительно превратился в бонвивана, прожигающего жизнь в злачных местах Парижа. Он целыми днями сидел в кабаках со своими новыми друзьями или наведывался в притоны, познавая нюансы женской анатомии и «науку телесной любви» с помощью «ночных бабочек» на любой вкус. Но «матерь городов французских» во все времена отличалась дороговизной широчайшего ассортимента предлагаемых ею «услуг» и удовольствий. Такой образ жизни, требующий, естественно, много денег, привел к тому, что долги молодого повесы Гильома росли со скоростью звука. Естественно, что очень скоро нашему любвеобильному провинциалу кредиторы «включили счетчик».
Возвращаться в томительную глушь родного городка, а вернее, стремительно бежать, в лоно семьи, он не пожелал, поскольку прекрасно знал, какое впечатление такое его легкомысленное времяпровождение произведет на отца. А потому, он стал лихорадочно обдумывать, что же предпринять. Наш бонвиан или, как сейчас говорит продвинутая молодежь, «клевый по жизни» (что-то «нарицательное» типа «федоровбондарчуков» или «ксюшсобчаков» – запредельно ушлых и падких до самопиара и наживы), пошел по иному пути. Он резко прекратил все общение с «предками» и принимает нестандартное решение: пошел… работать в типографию. Все зарабатываемые деньги, он спускал на красивую жизнь, без которой он теперь уже не мог обходиться. Казалось, жизнь Брюна стремительно несется в тартарары.
Однако все деньги, получаемые за свою работу, тратились им на все те же удовольствия и развлечения. Но «нет худа – без добра», работая в типографии, пылкий и энергичный Брюн, настолько увлекся литературой, поэзией и изящными искусствами, что возжелал увидеть отпечатанное шрифтом на бумаге… свое имя. Заниматься писательством (графоманией) в ту пору было очень модно – на дворе стоял Век Просвещения – и бумагомаранием занимались все, кому не лень! Вот и гуляка, и острослов Брюн «скатился на эту дорожку» и публикует некое «Красочное и сентиментальное путешествие по западным провинциям Франции». И хотя произведение осталось незамеченным, Гильом уже почувствовал «вкус пера», посчитал себя не много, ни мало – литератором, вследствие чего, Гильом решил вплотную заняться журналистикой поскольку именно она его истинное призвание. Если бы в это время ему предсказали, что он станет маршалом Франции, он расхохотался бы и послал бы к черту этого предсказателя.
Но «горы и тонны» эпических стихов и высокопарных эссе, дождем вылетавших из-под бойкого пера нашего «журналиста» сходу отвергались издателями. «Литературный гений» Брюн неистовствовал, но все было напрасно.
Но тут очень вовремя грянула революция и наш герой находит себе новое применение: он «уходит в революцию». Во все времена у определенной части молодежи это было очень модно и престижно. Не стал исключением и Гильом Брюн, очень импозантный и находчивый двадцатишестилетний сын юриста. Молодой Брюн с головой окунается в политические баталии, чтобы своими выступлениями и сочинениями прославить свое имя.
Охотно и сознательно разделяя идеи начавшейся революции («Свобода! Равенство! Братство!»), он становиться под их знамена, вступает в Национальную гвардию, став сразу капитаном. В парижских салонах и на митингах все чаще звучат имена Дантона, Робеспьера, Марата и других восходящих народных вождей. Не теряет времени даром и наш неудачливый журналист Гильом Брюн. Он с головой кидается в политику, примыкает к Дантону. У нашего «журналиста» репутация одного из самых решительных санкюлотов. Зажигательным речам высокого брюнета с пылающими темными глазами восторженно внимают толпы простолюдинов. Он быстро становится кумиром масс! Но, несмотря на это, потуги на графоманство в области эссе и эпического стихосложения не оставляют нашего пламенного революционера и он высказывает свои соображения по этому поводу своему другу Дантону. И тот находит выход из сложившейся дилеммы: весьма мудро переориентировав литературную энергию бывшего журналиста на тему… войны, тем более, что она не за горами.
Это очень злободневно: ведь всем ясно, что монархическая Европа не смириться с фактом свержения власти одного из ее родственников (все короли Европы были в какой-то степени между собой родственниками!), а затем и его гильотинирования. Она обязательно сообща пойдет войной на оплот «революционной заразы». Английские «океанократы» отправили свои флоты к французскому побережью. Австрия с Пруссией уже примкнули штыки, обнажили сабли с палашами и расчехлили пушки! Да и «Северная Мессалина» (блудливая «до гроба доски» российская императрица-мужеубийца Екатерина II) тоже подумывала не бросить ли ей на крамольников своего «Русского Марса» победоносного «Ляксандра Васильча», благо он рвался отточить на них после турок и бунташных поляков Тадеуша Костюшко свое полководческое мастерство!
«На нас идут короли всей Европы! Мы же вызовем их на схватку, бросив им под ноги голову короля!!» – ревел с трибуны неистовый Дантон. Его клич подхватил знавший силу слова, адвокат Камиль Демулен, агитационно-провокационно бросив в заведенную толпу всего два магнетических слова: «К оружию!!!» А ведь после «Хлеба и Зрелищ!» – это главное – что завсегда л`юбо Быдлу (Кумачевой сволочи!)!
Озаренный гением Дантона и доходчивым призывом Демулена наш герой, не долго думая, разразился трактатом по вопросам… военной тактики! Затем одна из парижских прелестниц (а он был очень большой «ходок»! ), весьма ехидно отозвалась о его шедевральных военных записках: «Ах, Брюн! Если бы сражались перьями, то вы стали бы знаменитым генералом!» Как известно, порой «женскими устами глаголет истина» и пламенный народный трибун Гильом-Мари-Анн Брюн вдруг ощутил себя… военным человеком!
И вот когда по всей Франции стали создаваться отряды Национальной гвардии, Брюн решил сменить перо на ружье и вступает в ее ряды. При выборах офицеров, он неожиданно становится капитаном. Обстановка благоприятствует такому патриотическому решению – «Patrie en danger!» («Отечество в Опасности!») – враги подступают к границам революционной Франции со всех сторон. Он вновь идет к своему другу Дантону и просит его предоставить ему должность в одной иp волонтерских частей, которые в большом количестве формировались в это время. И вскоре он уже майор 2-го батальона волонтеров департамента Сена и Уаза. Брюн вступил на дорогу славы или, вернее своей очередной славы, на этот раз военной!
Уже через год он становится полковником, а 18 августа 1793 г. бригадным генералом. Участвуя в боевых операциях, Брюн проявил большую личную храбрость в сражении при Ондскоте. Благодаря своим радикальным взглядам и дружбе с Дантоном, Брюн становится вскоре членом Военного комитета Конвента.
…Между прочим, 2 сентября 1795 г. не обошли стороной «дела семейные» и нашего пламенного революционера и большого поклонника альковных игр: за Брюна вышла замуж некая Анжелика-Николь Пьер (1765—1829). Эта уже тридцатилетняя «девица» из весьма скромной семьи работала полировщицей. По сути дела этот брак лишь оформил давно завязавшиеся отношения парижанки с бывшим провинциалом, не пожелавшим возвращаться в свое захолустье. Одна из самых осведомленных (в том числе, по интимным делам среди маршалата и генералитета наполеоновской империи) и язвительных женщин наполеоновской эпохи жена генерала Жюно, более известная как Лаура д’Абрантес признавала, что маршальша Брюн – «простая и добрая». Другие не столь завистливые (очень характерная черта подавляющего числа представительниц слабого пола, чья «„мстя“ ужасна, непредсказуема и бесконечна»! ) женщины даже называли Анжелику Николь очень красивой. Она была отличной хозяйкой, но матерью Бог и Природа ей стать так и не дали (по крайне мере, в ту пору было принято «сваливать» бездетность на… женщин!). Зато она посвятила себя воспитанию двух приемных дочерей. Сила души и характера этой мужественной женщины в полной мере проявились в трагические дни гибели ее мужа…
В 1796—97 гг. Брюн участвует в Итальянской кампании Наполеона Бонапарта, командуя бригадой в дивизии Массена. В боевых действиях он проявляет неустрашимость, решительность и революционный пыл, но и не более того. В своем очерке о том знаменитом походе Наполеон не упоминает о Брюне, кроме одного раза. Однако это единственное упоминание очень точно характеризует молодого бригадного генерала. После Тальяменто, дивизия Массена была направлена к Тарвису, где столкнулась с войсками эрцгерцога Карла. «Бой был упорный, – пишет Бонапарт. – С той и другой стороны чувствовалось понимание важности победы… Генерал Брюн, впоследствии маршал Франции, командовавший бригадой в дивизии Массена, вел себя здесь с величайшей доблестью».
Правда, Брюн, участвуя в боевых действиях, пришел к пониманию, что оказывается война – это не только махание саблей и стрельба, но и возможность неплохо подзаработать в финансовом отношении. В промежутках между боями он с беззастенчивостью воришки стал набивать свои карманы. Направленный во главе армии в Швейцарию, он ловко опустошает швейцарскую казну ради финансирования Египетской авантюры 1798—99 гг. амбициозного генерала Бонапарта. И хотя на восток Брюна не взяли, но вскоре наступил его звездный час! Он одержал свою единственную громкую победу, сыгравшую очень важную роль в истории республиканской Франции.
Пока Бонапарт «покорял» Восток, «Туманный Альбион» предпринял очередную попытку ликвидировать «революционную заразу» в континентальной Европе. Англия спонсировала новую антифранцузскую коалицию, в которую вошли Австрия, Россия, Неаполитанское королевство.
В тоже время готовившийся к высадке в конце августа 1799 г. в Голландии экспедиционный англо-русский корпус (по разным данным от 25 до 33 тыс. штыков и сабель) брата английского короля Георга III, посредственного военачальника, герцога Фредерика Йоркского (1763—1827) вот-вот должен был вторгнуться во Францию с северо-востока.
Туда срочно был направлен французским правительством Гильом-Мари-Анн Брюн, чтобы возглавить так называемую Батавскую (франко-голландскую) 22-тысячную армию и свести на нет все усилия союзников. В ситуации, когда разметавший армии Макдональда и Моро в Северной Италии неистовый старик Souwaroff, собирался с юго-востока через Швейцарские перевалы прорваться навстречу к корпусу Римского-Корсакова для совместного с австрийцами броска во Францию, Брюну предстояло сыграть роль одного из Спасителей Отечества.
Забегая вперед, скажем, что она ему удалась.
Тем временем британская эскадра в составе 55 военных кораблей всех классов и транспортный флот из 180 судов отплыли из Англии. Узнав о приближении вражеской эскадры, Брюн решил не торопиться и выяснить намерения противника, ограничившись направлением дивизии генерала Дэндельса к Гельдеру – самому важному пункту его участка.
Эта передовая французская дивизия не смогла воспрепятствовать высадке у Гельдера на берег британской дивизии генерала Ральфа Эберкромби (1734—1801) и была отражена. Зато Брюн, сумел разгадать все намерения противника и уже всеми силами выступил навстречу англичанам. Три его дивизии двигались тремя компактными колоннами: Дэндельса – справа, Дюмонсо – в центре и слева – Вандамма, одного из лучших французских пехотных генералов не только той поры, но и грядущих наполеоновских войн.
Видя, что противник не очень-то и силен, Брюн решил нанести удар первым.
10 сентября на рассвете он начал наступление шестью колоннами. Однако с самого начала все пошло не так, как планировал французский генерал. Не имевшего переправочных средств Вандамма, союзники задержали у Алькмаарского канала и он не смог переправиться через него, а две другие дивизии тоже принялись топтаться на месте. Получивший отпор Брюн не полез на рожон, понапрасну теряя силы, а умело «сел в крепкую оборону», возведя укрепления, в ожидании обещанных ему подкреплений.
В середине сентября на побережье высадился герцог Йоркский – собственной персоной – со 2-й английской дивизией и 11-тысячным русским корпусом генерала от инфантерии Ивана Ивановича Германа (1744—1801). Того самого, между прочим, Германа, которого по началу российский император Павел приставил было следить за Суворовым в Италии, но затем передумал и направил в помощь англичанам, готовящимся к высадке на северо-восточном побережье Франции.
18 сентября русско-английские войска перешли в наступление: генерал Эберкромби двинулся против правого фланга французов; генерал Дундас – на центр, а генерал Герман атаковал левое крыло Брюна. После ожесточенного боя союзники смогли захватить деревню Берген. Однако генерал Вандамм не дал им закрепиться и развить успех, своевременно ударив в штыки. Деревня оказалась возвращена обратно, а войска Германа разгромлены, причем в плен попал и сам Иван Иванович и на этом полководческая карьера этого саксонского наемника на русской службе закончилась. Его, правда, потом выменяли на пленных французских генералов Периньона и Груши, (будущих, кстати, маршалов Франции), но прожил он после этого «конфуза» не долго. Герцог Йоркский, удрученный поражением Германа, отвел все свои изрядно потрепанные войска в тыловой лагерь.
Несмотря на первоначальный успех, Брюн не стал торопиться с контрударом, продолжив укреплять свои позиции, в ожидании подкреплений, уже бывших неподалеку. Пока противники пережидали, герцог Йоркский принялся приводить свои деморализованные войска в порядок. Ему следовало либо отказаться от попытки прорваться вглубь занимаемой неприятелем территории и убраться восвояси «не солоно хлебавши», или снова рискнуть пойти на сражение.
В конце концов, англичане решили еще раз атаковать врага всеми оставшимися у них силами.
2 октября союзники снова пошли вперед, на этот раз четырьмя колоннами: Эберкромби, Дундаса, Пальтни и сменившего неудачника Германа – принимавшего, участие в усмирении Суворовым Всепольского восстания Тадеуша Костюшко в 1794 гг., генерал-майора Ивана Николаевича (Магнуса Густава) Эссена 1-го [19.9.1759 им. Педдес Эстляндской губ. (или Калви, волость Азери, Восточная Эстония – 8.7./ 23 августа 1813, Бальдон Курляндской губ. (Латвия)] (не путать с П. К. Эссеном 3-м – участником Цюрихского «конфуза» Римского-Корсакова»! ). И хотя французы опять отразили все атаки на деревню Берген, но общий исход боя остался неясен и обе армии заночевали прямо на поле боя. Однако, на следующий день, Брюн предпочел отойти на виду у неприятеля на новую позицию у Бевервейка. Именно там его ожидали долгожданные подкрепления, наконец-то прибывшие из Франции.
Два следующих дня противники простояли без движения: инертный герцог Йоркский никак не мог решиться снова наступать, а Брюн собирался взять союзников измором, благо что именно ему бездействие шло на пользу.
Лишь на третий день британский главнокомандующий, все же, дал команду на атаку. Упорный бой не стихал весь день. Позиции стойко оборонявшихся французов, не раз и не два переходили из рук в руки. Не было понятно, чья – возьмет вверх. Только ближе к ночи генерал Брюн провел проникающую кавалерийскую атаку, расстроившую вражеские ряды и союзники принялись стремительно отступать.
Проатаковав весь день, понеся большие потери, герцог Йоркский отвел свои деморализованные постоянными неудачами войска вглубь исходных рубежей. Казалось, ему пора сажать десант обратно на корабли и «уносить ноги» пока французы не сбросили в море остатки союзных войск. Но упрямый англичанин остался на позициях, явно надеясь на благоприятный случай.
Теперь уже Брюн, изрядно укрепившийся, и к тому же почувствовавший, что фортуна на его стороне решил перейти к активным наступательным действиям. 15 октября он взял в кольцо лагерь русско-английской армии и вот-вот грозился покончить с противником. Только тогда английский главнокомандующий, поняв, что оказался в патовой ситуации, решил капитулировать на почетных условиях.
Уже 19 ноября последний отряд союзников покинул Голландию, так и не выполнив поставленную задачу.
Общие потери союзников в той бездарной кампании составили ок. 10 тыс. убитыми, раненным и пленными. Англичане за право свободного выхода из страны обязались вернуть Франции всех когда-либо взятых в плен французов. Примечательно, что раздосадованные британцы русских солдат отказались вывозить на Туманный Альбион, а перебросили их морем на о-ва Джерси и Гернеси, где зимой остатки русского экспедиционного «горе-корпуса» влачили жалкое существование без пропитания, без обносившихся одежды и стоптанной обуви.
Так бывает обычно со всеми союзниками островной Великобритании, у которой нет постоянных партнеров, а имеются только постоянные интересы. Так было, так есть и так будет всегда.
После этой победы за генералом Брюном в войсках закрепилось почетное звание «Спасителя Батавской республики», так называлась дочерняя республика, образованная на территории Голландии.
В своих воспоминаниях, Наполеон, хоть и не резко, но критиковал некоторые действия и решения Брюна. Разбирая все этапы этой кампании, Наполеон, в частности, пишет: «Генерал Брюн потерял десять дней августа в досадных колебаниях. Чтобы принять решение, он выжидал более надежных сведений о намерениях противника. Он считал, что лучше действовать медленно, чем действовать плохо и наобум. Такая осмотрительность была тут неуместна: не могло быть никакого сомнения относительно пункта, где будет иметь место атака англичан. Им хотелось захватить Голландию; они могли это сделать, лишь овладев Зюйдерзее, а для этого им нужен был Гельдер». Однако, несмотря на критические замечания, Бонапарт в конце заключает, давая тем самым оценку действиям Брюна: «Он провел кампанию умно».
Более того, позднее Наполеон признал, что Брюн в 1799 г. избавил Францию от нового вражеского нашествия. Впрочем, это не помешало Бонапарту емко и доходчиво охарактеризовать степень военного дарования бывшего журналиста и по совместительству «пламенного революционера»: «Брюн имел известные заслуги, но в общем, был скорее генералом трибуны (курсив мой – Я.Н.), чем внушающим страх воином».
…Между прочим, значение этой победы, наравне с победой Массены над Римским-Корсаковым (а Сульта – над Готце) в Швейцарии, для революционной Франции трудно переоценить. Если бы после Нови Суворову удалось-таки прорваться к Римскому-Корсакову и раздавить армию Массены, а Брюн не смог бы отразить англо-русское вторжение герцога Йоркского в Голландии, то кое-кто из историков не исключает возможности попытки вторжения монархических союзников (России, Австрии, Пруссии и Англии) во Францию, поскольку Рейнская армия вряд ли смогла бы в одиночку устоять при мощном нажиме. Более того, отдельные исследователи и вовсе склонны полагать, что при ином исходе этих сражений и прочих более благоприятных привходящих обстоятельствах русские, прусские, австрийские и британские армии могли оказаться во Франции на пятнадцать лет раньше, чем это произошло на самом деле. Впрочем, история, как известно, не имеет сослагательного наклонения или, «каждому – свое»!? А так «лебединая песня» победоносного Суворова – столь желанный для европейских монархов поход на Париж, как и не менее желанная для «русского Марса» встреча на поле боя с Бонапартом, как это активно популяризируется в отечественной литературе, «… широко шагающим мальчиком, которого пора унять, а не то будет поздно» (?) – не состоялись. И очень скоро, предостережение Суворова, что «новый Рим пойдет по стопам древнего», реализовалось: наполеоновская Франция начала стремительно поглощать европейские государства, превращаясь в супер-державу…
Так или иначе, но Брюн был в числе тех немногих генералов-патриотов, которые в очередную для родины суровую годину («Отечество в опасности!»), погребли все планы европейских монархов похода на республиканский Париж.
Несмотря свои крайне радикальные республиканские взгляды, Брюн поддержал Наполеона во время государственного переворота 18 брюмера и в декабре 1799 г. был назначен Бонапартом, ставшим Первым консулом Французской республики, членом Государственного совета и председателем военной секции.
Затем Брюна во главе 60-тысячной армии, перебрасывают на запад Франции, где активизировались вандейцы. Наш герой сумел добиться лишь некоторых успехов и через какое-то время его поменяли на Бернадотта, переведя в Италию.
До него главнокомандующим Итальянской армией по распоряжению Наполеона 24 июня 1800 г. был генерал Массена. Но уже спустя пару месяцев Первый консул пересмотрел свое решение. Все очень просто: став главнокомандующим, Массена без зазрения совести принялся набивать свои карманы всем, чем только было можно. Мало того, что он занялся разворовыванием казенных армейских денег, так еще не гнушался и грабежами и мародерством.
Именно Брюну пришлось 13 августа 1800 г. сменить непотребно проворовавшегося Массену. Вскоре выяснилось, что и новый главнокомандующий Итальянской армией мало, чем отличался от бывшего: подобно Массене Брюн не гнушаясь ничем, что могло бы обогатить его. Именно за казнокрадство Бонапарт его недолюбливал, больше всего.
А вот воевал Брюн в Италии точно также, как до этого действовал против англичан и русских в Голландии – очень не спеша и весьма осторожно. И, тем не менее, такая тактика сработала снова: в битве при Поццоло он сумел нанести поражение австрийской армии. Правды ради, следует уточнить, что в его победе ключевую роль сыграла прорвавшая центр вражеской позиции стремительная кавалерийская атака генерала Даву!
Несмотря на поддержку Бонапарта во время событий 18 брюмера, сделавших его властелином Франции, Брюн, тем не менее, не слишком симпатизировал Наполеону. Неизвестно, насколько он участвовал, и участвовал ли в распространении «пасквилей» против Бонапарта, но последний решил отослать этого «пламенного революционера» послом в Турцию, подальше от Парижа, благо война с ней закончилась после эвакуации французских войск из Египта.
Казалось, нашего «героя трибуны» уже мало что ожидает на родине, но именно Брюн удостоился звания маршала Франции.
…Между прочим, его маршальство, как впрочем и Бессьера, а потом спустя годы и Мармона, вызвало немало разговоров, как в армейской среде, так и в гражданском обществе. Почему Брюн, никогда не вызывавший большой симпатии Бонапарта, да и сам не симпатизировавший ему, вдруг получил столь высокое звание, став высшим сановником империи? Профессионалы отлично понимали, что Брюн не чета Массене или даже Журдану, но и ничуть не хуже Монсея или Периньона и т. п. и т. д. Лишь один неоспоримый аргумент в пользу Брюна лежал на поверхности: отражение русско-английского десанта осенью 1799 г. в Голландии, отчасти, предотвратившего другие более серьезные беды для республиканской Франции! Но достаточно ли этого для маршальства – вот в чем вопрос!? Судя по всему, у Бонапарта были свои резоны раздать маршальские жезлы первым 18 генералам, среди которых, как показало время было всего лишь несколько разностороннеодаренных военачальников – Массена, Даву, Ланн и Сульт. Скорее всего, это была попытка консолидации всех слоев нового французского общества под его эгидой. В маршалате оказались совершенно разные по своим взглядам и устремлениям, дарованиям и нравственным качествам военачальники: пламенные республиканцы; бывшие королевские офицеры, пошедшие служить новой власти ради карьерного роста, но так до конца не принявшие новый режим; амбициозные либералы; истинные патриоты; и честолюбивая молодежь, понимавшая, что их военная карьера всецело зависит от благосклонности Наполеона и именно он всячески поощряет их талант, продвигая их вверх по службе. В результате судьбе было угодно, чтобы не обладавший сверхъестественными военными талантами и не одержавший потрясающих побед, журналист по призванию и военный по ситуации, «генерал трибуны» Гильом-Мари-Анн Брюн стал… маршалом Франции! Возможно, так сложились обстоятельства либо так легли звезды!? Скажем сразу, что с маршальством Брюну сильно повезло. Дело в том, что именно Французская буржуазная революция (как и все остальные подобные «катаклизмы») дала шанс «прорваться наверх» людям рисковым, решительным, энергичным и удачливым, т.е. из «Грязи в Князи». Остальные могли лишь сетовать, что между 1789 и 1804 гг. они не воспользовались случаем, пока все «пути-дороги» к чинам, почестям и богатству были открыты. Установление империи Наполеона ознаменовало возвращение к порядку, когда чины и должности снова стали распределяться по старшинству, по окончании престижного заведения или из-за громкого имени. Все стремительные продвижения вверх по социальной лестнице после 1804 г. затормозились очень сильно, а затем и вовсе сошли на нет. Вторых «Мюратов», «Ланнов», «Нейев» – выходцев из простых солдат революции, из «гущи народной» – в период империи Франция уже не получила…
Став маршалом, Брюн уже почти не воевал – такова была воля Наполеона. Он в основном занимался очень выгодным лично для его кармана занятием -администрированием: губернаторствовал в ганзейских городах Бремене, Гамбурге, Любеке. Вполне естественно, что на этой должности он не умерил свой пыл в отношении поборов и нечестного обогащения. Поначалу Наполеон закрывал глаза на это очередное лихоимство маршала: он был очень занят войной с Пруссией, а потом и с русскими в Польше.
Весной 1807 г. случилось событие, имевшее роковые последствия для Брюна лично. Тогда против французов, осаждавших Кольберг, шведы высадили десант и открыли боевые действия. Брюн сумел отбросить шведов в Штральзунд и даже понудил их к капитуляции. Но подписывая ее, французский, а по сути дела – наполеоновский – маршал допустил непростительный поступок, вызвавший резкое недовольство Наполеона. Брюн подписал документ о капитуляции от имени «французской армии», забыв упомянуть… «Его Императорское и Королевское величество», т. е. Наполеона. Сверхамбициозному «корсиканскому выскочке» «генералу Бонапарту» очень не понравилось такое умаление его достоинства как главы государства.
Эта ошибка вкупе с давно копившимся у Бонапарта недовольством корыстолюбием (многочисленные жалобы о лихоимстве Брюна в ганзейских городах) нелюбимого им маршала Брюна повлекли за собой снятие последнего с его «корытно-хлебного» поста. Наполеон до конца жизни не мог забыть мошенничества Брюну, называя его в числе самых «ненасытных грабителей». А ведь в самом начале своей военной карьеры – в годы революционных войн – Брюн слыл строгим блюстителем республиканской морали. С возрастом человек меняется (или раскрывается?), причем, порой, не в лучшую сторону – не так ли!?
С той поры целых семь лет Брюн находится в опале, не получая никаких должностей. После Первого отречения Наполеона в 1814 г., Брюн присягнул Бурбонам, однако каких-либо назначений от короля Людовика XVIII не получил.
В ходе «Ста дней», Брюн перешел на сторону вернувшегося императора французов. Последний не отказался от услуг опального маршала и назначил его командиром Варского корпуса для охраны юга Франции. Но ничего опасного там за эти 100 дней так и не произошло. Рассказывали, что уже на острове Св. Елены, Бонапарт вроде все же пожалел, что не поручил Брюну поднимать на борьбу с союзниками рабочих парижских предместий. Впрочем, повторимся, что именно тогда же Наполеон емко и доходчиво охарактеризовал степень военного дарования бывшего журналиста и по совместительству «пламенного революционера»: «Брюн имел известные заслуги, но в общем был скорее генералом трибуны (курсив мой – Я.Н.), чем внушающим страх воином».
После очередной реставрации Бурбонов Брюн вновь клянется им в верности и снова пытается предложить свои услуги. Именно с этой целью он собирается выехать в Париж, чтобы предстать перед королем…
Второго августа 1815 г. маршал Брюн прибыл в Авиньон и остановился в гостинице «Пале-Руайяль» лишь для того, чтобы сменить лошадей. Очень скоро перед зданием собралась возбужденная толпа вооруженных людей. Дело в том, что на юге Франции уже во всю орудовали уголовные банды, ловко прикрывавшиеся именем короля, т.е. как они себя сами называли – «истинные слуги короля». Теперь они вели настоящую охоту за всеми, кто хоть как-то был связан не только с «узурпатором» и всеми его приверженцами, но и с революционными событиями, которые привели к убийству «христианнейшего» короля Людовика XVI и свержению династии Бурбонов с престола Франции. Они прекрасно знали, что никакого преследования со стороны королевского правительства не будет, а потому действовали открыто, нагло и жестоко
Поскольку в поле досягаемости их «грязных лап» оказался бывший наполеоновский маршал Брюн, то они решили показать всем как это делается, тем более, что именно Брюн вызывал у них особую ненависть. Многие авиньонцы были уверены, что именно этот маршал еще в далеком 1792 г. участвовал в сентябрьской резне сторонников короля Людовика XVI в Париже и даже носил на пике голову обесчещенной и растрезанной толпой принцессы де Ламбаль, с которой по слухам королева состояла в блуде.
…Впрочем, истории осталось неизвестно был ли наш герой замешал в этом кровавом убийстве и последующем коллективном надругательстве над телом близкой подруги королевы Марии-Антуанетты…
Известно немало вариантов последних часов маршала Брюна. Другое дело, что 2 августа 1815 г. в придорожном трактире разъяренная толпа «роялистов» застрелила «пламенного революционера» почти в упор. Умирая, он якобы все же успел прошептать: «Господи! Пережить сотню битв и так помирать…».
Не будем уточнять нюансы быдлового глумлении над истерзанными останками человека, а затем и могилой, который 15 лет назад, когда в очередной раз «Отечество было в Опасности», отразил угрозу с севера и избавил Францию от нового вражеского нашествия…>>
…Выдающийся военный, государственный деятель, инженер и ученый, дивизионный генерал (25 января 1814 г.) граф империи (20 марта 1815 г.), пэр Франции (1815) Лазар-Никола-Маргерит Карно (13.05.1753, Ноле близ Кале, департ. Па-де-Кале – 2.08.1823, Магдебург, Пруссия), прозванный «Организатором победы» (L, Organisateur de lavictoire) и «Великим Карно» (Le Grand Carnot).
Родившись в многодетной (18 чел.) (то ли офицера, то ли адвоката: данные разнятся), он закончил Военный колледж Мезьера (Ecole militaire de Mezieres), и в 1771 г. поступил в Парижское военно-инженерное училище. После его окончания Карно был произведен в офицеры и определен на службу в королевский корпус военных инженеров в 1773 г. В 1783 г. Лазар произведен в капитаны, а в 1784 г. за работу «Похвальное слово Вобану» удостоен награды Дижонской академии.
Когда по всей стране громыхнула революция, Карно, в отличие от большинства своих сослуживцев, эмигрировавших за границу, остался во Франции и перешел на сторону восставшего народа. В 1787 г. познакомился с Максимилианом Робеспьером. В 1791 г., уже став подполковником, он избирается депутатом Законодательного собрания Франции от своего родного департамента Па-де-Кале, где оказывается среди крайних радикалов, выступавших за углубление революционных преобразований в стране. В 1792 г. он стал членом Конвента, где зарекомендовал себя стойким республиканцем, проголосовавшим за казнь низложенного короля Людовика XVI.
С началом войны революционной Франции против 1-й коалиции европейских держав в апреле 1792 г. Карно отправляется на фронт, знакомится с офицерами и солдатами, лично участвует в боевых действиях против интервентов.
С осени 1792 г. – он уже комиссар Конвента и выезжает на различные фронты. В годы революционных войн выполнял эту миссию неоднократно, лично переписывался с боевыми генералами, решал вопросы о назначениях и составлял планы кампаний; в критический для Республики момент он настойчиво внедрял новую тактику войны: «Нужно атаковать внезапно, стремительно, не оглядываясь назад. Нужно ослеплять как молния и бить молниеносно». Карно резко выделялся глубокими знаниями военного дела, энергией и решительностью от многих других комиссаров, являвшихся сугубо гражданскими людьми, не имевшими никакой военной подготовки и зачастую только мешавшими командующим армиями выполнять свои прямые обязанности. Так, в частности, Карно принимал активное участие в организации обороны французских войск в Восточных Пиренеях, затем во Фландрии и ряде других районов.
После измены генерала Ш. Дюмурье в апреле 1793 г. именно Карно принял на себя общее руководство французскими войсками в Северной Франции. Именно он на пару с генералом Ж. Журданом нанес противнику поражение (как принято считать, одно из четырех судьбоносных для республиканской Франции!) в сражении при Ваттиньи (15—16 октября 1793 г.), прямо на поле боя разжаловал генерала Пьера-Гийома Грасьена, давшего приказ отступить своей бригаде, приведённой в беспорядок фланговой атакой неприятеля.
Военно-административные способности Карно были высоко оценены революционным правительством Французской республики. В августе 1793 г. он был введен в состав Комитета общественного спасения (высший военно-политический орган республики в период якобинской диктатуры), где с 14 августа 1793 г. возглавил стратегическое руководство вооруженными силами республиканской Франции. На этом посту Карно проявил незаурядные военные дарования, выдвинулся как выдающийся военный организатор борьбы, французского народа против объединенных сил европейской реакции и внутренней контрреволюции.
Он выдвинул план создания массовой армии и явился одним из основных руководителей, воплотивших этот грандиозный план в жизнь. Под его непосредственным руководством были сформированы 14 армейских объединений, проведена военная реформа, в результате которой коренным образом реорганизована и приспособлена к новым условиям вся военная система Франции.
23 августа 1793 г. по настоянию Карно Конвент принял декрет о всеобщей военной мобилизации, объявлявший всех французов от 18 до 40 лет мобилизованными на военную службу для спасения революции. Он обязывал встать под ее знамена всех способных носить оружие. В первую очередь призыву в армию подлежали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а также неженатые и бездетные мужчины старших возрастов. На основании декрета для нужд армии в каждом административном округе также мобилизовывались запасы продовольствия и фуража. По расчетам Карно, первая мобилизация должна была дать 400—500 тыс. человек, но фактически она дала значительно большее количество призывников.
В 1794 г. на различных фронтах Французской республики действовали 14 армий. Если в феврале 1793 г. вооруженные силы Франции насчитывали лишь ок. 230 тыс. человек, то к сентябрю 1794 г. общая численность французской революционной армии достигла 1 млн. 26 тыс. человек!
Во многом благодаря усилиям Карно был решен вопрос с вооружением и материальным обеспечением массовой революционной армии. Изменена система снабжения войск продовольствием и фуражом. Старая магазинная система снабжения и лагерного расположения войск была отброшена. Республика не располагала материальными средствами для того, чтобы создавать громоздкие магазины и огромные обозы для их обслуживания. Французская армия перешла к системе реквизиций и расположения бивуаками. Это существенно повысило ее подвижность и маневренность.
Массовая революционная армия не могла воевать по-старому, как это было принято в армиях феодально-абсолютистских государств: для использования ее крупных войсковых масс потребовались новые способы стратегии и тактики. Не только Карно, но и один из вождей якобинцев Л. Сен-Жюст это хорошо понимали. Недаром последний утверждал, что революционная французская «военная система должна заключаться в стремительности и натиске».
Для обеспечения руководства войной был создан Комитет Общественного Спасения, который составлял планы ведения войны в целом, отдельных кампаний и походов, определял необходимость сосредоточения сил на том или ином направлении, организовывал снабжение войск, контролировал исполнение отданных приказов, распоряжений и директив. Единство в руководстве войной вносило свой весомый вклад в успешное проведение боевых действий. Подходя по-новому к ведению войны, Карно играл в комитете главную роль по военным вопросам. Поскольку многочисленные армии действовали на разных оперативных направлениях, то он настоял на отказе от кордонной стратегии (равномерного распределения сил на театре военных действий), не предусматривавшей создания ярко выраженных ударных группировок войск.
Вместо распыления сил для прикрытия отдельных крепостей и других стратегически важных объектов Карно стал применять новый способ ведения войны. Французы наносили сильные удары мощными группами войск по неглубокому (не эшелонированному) расположению вражеских войск. Таким образом, максимально большая масса людей и артиллерии в строго определенное время энергично направлялись для стремительной атаки каких-то конкретных пунктов.
Несмотря на то, что неприятель в целом обладал большим численным превосходством, военное руководство французской республики умело использовало распыленность войск противника, создавая превосходство в силах над ним на направлениях главных ударов. Новизна такой стратегии состояла в том, что она применялась на обширном театре военных действий, охватывавшем по периметру границы целой и притом крупной по европейским меркам страны. Почти полтора десятка республиканских армий действовали то в одиночку, то группами, создание которых достигалось посредством быстрых и внезапных для противника перегруппировок. Французы сражались крупными массами, нанося решающие удары в штыковой атаке, стремясь преследовать врага до полного его уничтожения.
Стратегии Карно были присущи впечатляющая масштабность, стратегическая четкость и решительность в выполнении поставленных задач. Главным для французов стало уничтожение армии противника, они сами ищут сражений, которые теперь для них становится главным средством к победе над врагом. Новые черты стратегии уже резко отличают военное искусство французской революционной армии от искусства феодально-абсолютистских армий Западной Европы.
Правильный выбор направления главного удара в войне с сильным и опытным врагом, искусная концентрация сил на угрожаемых направлениях, стремительное нанесение ударов по наиболее уязвимым местам противника, решительный маневр и неотступное преследование разгромленного неприятеля – все это говорило о высоком стратегическом искусстве военного руководства Французской республики, возглавляемого в 1793—94 гг. Карно.
Уже к осени 1793 г. произошел перелом в ходе боевых действий на всех фронтах. Французы не только остановили наступление врага, но и нанесли ему ряд крупных поражений. К концу 1793 г. армии интервентов были отброшены за Рейн. На юге французы удержали свои позиции против испанских войск, вторглись в Савойю и овладели Тулоном. Революционная Франция преодолела кризисное состояние своих вооруженных сил и создала массовую армию.
Карно явился одним из создателей новой ударной тактики революционной армии – тактики колонн и рассыпного строя. (Справедливости ради отметим, что в крупнейшей европейской державе той поры – российской империи, активно воевавшей в XVIII в. – на это обратили внимание и активно применяли уже в середине – 2-й пол. XVIII в. такие прогрессивные полководцы своего времени как выдающийся военачальник П. А. Румянцев, а затем и гениальный А. В. Суворов.) Построение боевых порядков французскими войсками производилось с быстротой, которая была неизвестна их западноевропейским противникам. Боевой порядок французов отличался гибкостью и подвижностью. Потерпев неудачу в столкновении с врагом, они быстро отрывались от противника, а при наступлении неожиданно появлялись на его флангах. С принятием на вооружение новой ударной тактики боеспособность французских войск резко повысилась. Это позволило им добиться крупных успехов в борьбе с армиями монархической Европы на всех фронтах в ходе кампаний 1793—94 гг.
На командные должности выдвинулись новые офицеры, преданные Революции; выросли новые генералы, в значительной степени свободные от устаревших взглядов на военное искусство, продолжавших царить в армиях антифранцузской коалиции. И в этом Карно тоже принадлежала немалая заслуга. По его инициативе на высшие командные должности был выдвинут целый ряд способных генералов, впоследствии выковавших славу французского оружия и вошедших в пантеон полководческого искусства Франции.
А затем в биографии Карно начались «ухабы», которые преследовали его по сути дела до конца его жизни.
С весны 1794 г. начались трения между Карно и сторонниками М. Робеспьера. Причиной тому послужило несогласие Карно с некоторыми военно-политическими шагами якобинского руководства, в частности, он резко выступал против крайностей кровавого якобинского террора, особенно репрессий против высшего командного состава армии. Вследствие этого Карно подвергался ожесточенным нападкам со стороны радикалов как в Конвенте, так и в Комитете Общественного Спасения.
Во время государственного переворота 9 термидора (27—28 июля 1794 г.) он выступил против Робеспьера и его ближайшего окружения. После их свержения он был избран председателем Конвента. Но вскоре Карно предпочел снова сконцентрироваться на деятельности в военном министерстве. В немалой степени он (с подачи всесильного в ту пору Барраса) посодействовал назначению генерала Наполеона Бонапарта командующим Итальянской армией, тем самым, дав «зеленый свет» его блистательной карьере полководца мирового класса. В 1796 г. его избирают членом Директории, просуществовавшей с 4 ноября 1795 г. до 10 ноября 1799 г.
После новых выдающихся успехов на разных фронтах, Карно, понимая, что за годы длительной и разорительной войны Франция остро нуждается в передышке, в 1797 г. выступил за заключение мира с коалицией европейских монархов, чтобы восстановить внутренний порядок в стране. Однако его предложение вызвало резко негативную реакцию со стороны большинства членов Директории (Барраса, Ребеля и Ларевельера-Лепо), заподозривших Карно в сговоре с врагами Франции. Во время государственного переворота 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.), вовремя предупрежденный о том, что его ожидает арест и ссылка в далекую заморскую Кайенну (колония Французская Гвиана с ужасным климатом, где европейцы, как правило, стремительно угасали), он успел бежать в Швейцарию, потом в Баварию. Жил под чужим именем в Аугсбурге.
После государственного переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), пришедший к власти, генерал Наполеон Бонапарт разрешил вернуться на родину всем изгнанникам. В их числе был и Карно, возвратившийся во Францию в конце 1799 г. В апреле 1800 г. Первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт назначил его военным министром. Карно взялся за исполнение возложенных на него обязанностей с присущей ему энергией. Основные усилия он сосредоточил на завершении подготовки армии Наполеона к вторжению в Северную Италию, утерянную французами в 1799 г. Поход этот увенчался полным успехом.
Затем в октябре 1800 г. Карно оказывается в отставке: то ли он сам сделал это шаг, поскольку не одобрял стремления Наполеона к единоличной власти, то ли Наполеон лично отправил его в отставку, заподозрив в связях с республиканской оппозицией своему режиму?
Так или иначе, но отойдя от военных дел, Карно занялся научной работой, склонность к которой проявил еще в юные годы. Его способности в исследовательской работе, особенно в точных науках, отмечали еще наставники в военно-инженерном училище. Он не оставлял своих научных изысканий и в последующие годы, сосредоточившись в основном на исследованиях в области математики и прикладной механики, а затем и фортификации. Важнейшие из них (переведены на иностранные языки): «О соотношении геометрических фигур» («De la correlation des figures en géometrie») (1801); «Геометрия положения» («Géométrie de position») (1803) и другие. Труды Карно по проблемам математического анализа, геометрии и механики были высоко оценены научным сообществом.
Еще в 1796 г. он был избран членом Института Франции (высшее научное учреждение Французской республики, аналог Академии наук) по вакансии отделения физико-математических наук. После бегства из Франции французские академики, или как их тогда называли «бессмертные», (избрание в Институт Франции считалось пожизненным), исключили его из своих рядов. На место Карно был избран Наполеон Бонапарт. Но с возвращением из эмиграции Карно был восстановлен в правах члена Института.
В 1802 г. Карно был избран членом Трибуната, где продолжал отстаивать республиканские принципы и выступил против пожизненного консульства Наполеона Бонапарта и учреждения Почетного легиона. Встретив сильное противодействие сторонников Первого консула, отошел от политической деятельности и удалился в свое небольшое поместье в Бургундии. Жил бедно, продолжал заниматься наукой, поддерживал связи с Институтом Франции и Политехнической школой. Находился под строгим надзором полиции.
В 1804 г. выступил с протестом против установления империи и провозглашения Наполеона императором. Но это был глас вопиющего в пустыне, абсолютное большинство французов были за империю. Правда, выступая против устремлений Наполеона к авторитарной власти, Карно в то же время был его сторонником по многим другим вопросам, как внешнеполитическим, так и внутренним. И Наполеону это было хорошо известно. Когда один из агентов полиции сообщил в Париж своему начальству, что Карно является участником антиправительственного заговора и об этом было доложено императору, то Наполеон сразу же отверг этот домысел, заявив: «Можно было бы и не наблюдать за человеком, который хотя и принадлежит к числу недовольных, но никогда не примет участия в заговоре».
Несмотря на то, что в свое время в республиканской Франции Карно занимал высокие посты, в том числе и военные, но из-за своей скромности и демократических убеждений так и остался в чине подполковника, приравненного к рангу всего лишь батальонного командира. Понятно, что после увольнения со службы ему стала выплачиваться и соответствующая его рангу пенсия, причем, весьма скромная. Доведенный до отчаяния нуждой и отягощенный долгами, он не выдержал и в 1809 г. через военного министра А. Кларка обратился за помощью к императору. Наполеон вошел в положение бедствующего Карно, в свое время немало ему покровительствовавшего, и произвел того (якобы по ходатайству военного министра) в чин дивизионного генерала (это существенно повысило его военную пенсию) и приказал выдать ему якобы невыплаченное генеральское жалование за несколько минувших лет, с лихвой покрывшее все его долги. Кроме того, Наполеон назначил Карно, как бывшему военному министру, 10 тыс. франков ежегодного содержания. Вскоре Карно, как депутат Законодательного корпуса от департамента Кот д’Ор (Бургундия) оказался в Париже и попал на прием к императору. Наполеону не удалось уговорить Карно вновь вступить на военную службу.
Лишь в конце 1813 г., когда возникла реальная угроза вторжения врага на территорию Франции, он сам предложил свои услуги Наполеону: «Сир, пока успех венчал все Ваши начинания, я не предлагал Вашему Величеству свои услуги, потому что они могли быть и неприемлемы. Сегодня, Государь, когда злая фортуна испытывает Вашу стойкость, я не колеблюсь более предложить Вам те слабые силы, которые у меня остались».
Принятый на службу Карно был назначен военным губернатором Антверпена (Бельгия). Проявив завидную энергию, он, несмотря на свой уже почтенный возраст (ему было почти 60 лет), быстро подготовил город и крепость к обороне и приготовился к осаде. Но до нее дело не дошло, противник ограничился лишь блокадой Антверпена. Правда, к этому моменту его гарнизон был уже сильно ослаблен. Карно пришлось выделить около 5 тыс. своих лучших солдат на усиление корпуса генерала Н. Мезона, действовавшего в Бельгии. Несмотря на это Карно трижды отверг требование неприятеля сдать город. Противник подверг Антверпен сильной бомбардировке, но не смог сломить мужества его защитников. Только через месяц после падения Наполеона (5 мая 1814 г.) Карно передал город и крепость прибывшему из Парижа графу д’Артуа (брат нового короля Людовика XVIII). После этого он отправился в Париж, где был принят королем довольно холодно и сразу же уволен в отставку с небольшой пенсией.
Во время Первой реставрации Бурбонов за критику нового режима Карно обвинили в якобинстве и отдали под надзор полиции. После того как над ним нависла реальная угроза ареста, он предпочел скрыться.
Во время «Ста дней» он сразу же примкнул к Наполеону, который назначил его министром внутренних дел, наградил Командорским крестом орд. Почетного легиона, пожаловал титул графа империи и возвел в звание пэра Франции. В условиях, когда вся феодально-абсолютистская Европа, как и в годы Великой французской революции, вновь ополчилась на Францию, Карно предложил Наполеону обратиться к опыту 1793 г., призвать весь народ на защиту страны, создать массовую армию и выдвинуть лозунг «Отечество в опасности!». Но Наполеон не решился на радикальный такой шаг, поскольку никогда не считал себя «вождем Жакерии» и не был готов окончательно залить Францию кровью, которой у нее после почти 20 лет жестоких (революционных и наполеоновских) войн уже почти не осталось. (А историки до сих пор прикидывают: не совершил ли он тогда еще одной роковой ошибки!? Впрочем, история не знает сослагательного наклонения.)
После сокрушительного поражения Наполеона при Ватерлоо, когда многие из его ближайших сподвижников вновь отвернулись от него, Карно остался верен императору до конца. 21 июня 1815 г. он выступил в палате пэров против отречения Наполеона от престола, предложив провозгласить-таки как ему казалось спасительный для разгромленного императора лозунг «Отечество в опасности!» и установить в стране военную диктатуру во главе с Наполеоном. Правда, по вполне понятным причинам это радикальное предложение не прошло голосования: теперь все хотели мира и тишины – французская нация слишком дорого заплатила за долгие годы наполеоновских амбиций. Пэры (а они все без исключения были назначены лично Наполеоном) большинством голосов отвергли это предложение. Карно не сдался и сам попытался убедить Наполеона пойти на такой шаг, но снова потерпел неудачу. Бонапарт уже окончательно смирился со своей участью и отказался от продолжения какой бы то ни было борьбы. (Не рискнул дерзнуть!? Или «дважды в одну реку не войти»? ) Рассказывали, что поняв это, Карно предложил ему бежать в Америку. Но и здесь Наполеон – то ли промедлил, то ли ему уже было все равно.
После Второго отречения Наполеона Карно удалился в свое поместье, где над ним был установлен строгий полицейский надзор. Потом начались его преследования как «цареубийцы» (напомним, что он голосовал за казнь короля Людовика XVI в 1793 г.) и ему пришлось покинуть Францию, как оказалось навсегда. Оставшиеся годы жизни он провел сначала в Варшаве, потом в Магдебурге. Несмотря на скромную пенсию, присылаемую ему из Франции, и крайне ограниченные средства к существованию сохранил твердость духа и мужественно переносил все лишения. Отказался от всех предложений, поступивших к нему из ряда иностранных государств, предлагавших более сносные условия существования.
До конца жизни он занимался научной работой. Из военных трудов самым известным является его, составленное по поручению Наполеона, 3-томное исследование «Об обороне крепостей» («De la defense des places fortes»), опубликованное в 1810 г., переведенное почти на все европейские языки (выдержки были переведены на русский язык генералом Н. А. Зварковским). В нем Карно особо подчеркивал необходимость сочетания огня крепостной и полевой артиллерии с вылазками осажденного гарнизона.
Главный Творец военных побед Революционной Франции скончался в Магдебурге, на 71 году жизни, почти половину из них отдав армии и Отечеству, но похоронен был на чужбине… Лишь в конце века – 4 августа 1889 г. – его прах был торжественно перенесён в Пантеон…
* * *
Карно был истинным республиканцем, убежденным сторонником демократических преобразований в обществе. С первых же дней французской революции он, будучи офицером королевской армии, решительно порвал со своим прошлым и встал на сторону восставшего народа. Вскоре он заявил о себе и как политический деятель, будучи избран в Законодательное собрание Франции, а затем в Конвент, где примыкал к левому, наиболее радикальному крылу республиканцев. В дальнейшем, в годы якобинской диктатуры, он проявил себя как выдающийся деятель Французской республики, снискав славу «организатора побед» революционной армии. Именно с его именем связаны все ее славные победы в 1793 и 1794 гг. Возглавляя в годы наивысшего революционного подъема вооруженные силы Республики, Карно сыграл ведущую роль в деле мобилизации народных масс на борьбу с объединенными силами европейской реакции, пытавшейся путем военной интервенции задушить революцию во Франции, и добился в этом блестящих результатов. Недаром впоследствии его именовали не иначе как «великий Карно».
Обладая аналитическим умом и глубокими разносторонними знаниями, он сумел понять сложившиеся объективные условия (новые веяния), порожденные революцией, которые самым непосредственным образом влияли на развитие военного дела. Он одним из первых осознал необходимость создания новой, массовой армии и разработки новых стратегических и тактических форм вооруженной борьбы с целью их наиболее эффективного применения в изменившихся условиях. Карно решительно выдвинул новую стратегическую концепцию, сводившуюся к идее нанесения по противнику мощного удара крупными массами войск на избранном направлении. В годы Революционных войн Карно проявил себя как выдающийся стратег, обладающий несомненными полководческими дарованиями. Как военачальник крупного масштаба он – профессиональный военный – отличался не только обширными знаниями военной стратегии и тактики, но и решительностью, твердой волей, предприимчивостью, умением глубоко анализировать самую сложную обстановку и делать на основе проведенного анализа соответствующие выводы, обладал редким даром стратегического предвидения. Кроме того, он зарекомендовал себя как выдающийся военный реформатор и способный военный администратор (причем, очень жесткий), к тому же, лично бесстрашный на поле боя, что неоднократно доказывал, впереди всех ходя в штыковые атаки под шквальным ружейно-артиллерийским огнем противника.
Это был честный, талантливый, но в то же время весьма жесткий человек. Не обделен Карно был и храбростью. Так осенью 1793 г. по его приказу для взятия Мобежа были соединены Северная и Арденнская армии. Главное командование ими возглавил генерал Ж. Журдан. Ввиду важности предстоящей операции и для оказания непосредственной помощи Журдану Карно лично отправился в подчиненные ему войска. Австрийские войска принца Кобургского занимали позиции, которые они считали неприступными. Умело сконцентрировав силы и направив их на ключевой опорный пункт в обороне противника, проявив настойчивость и последовательность в атаках, возглавляемые Карно и Журданом французские войска одержали в октябре 1793 г. под Мобежем блестящую победу. Противник был отброшен за реку Самбру, французы овладели сильной крепостью Мобеж. В решающий момент сражения Карно, Журдан и комиссар Конвента Дюкенуа лично возглавили колонну французских солдат, устремившихся на решительный штурм австрийских позиций. Опоясанные трехцветными шарфами и несшие шляпы на концах своих сабель, они бесстрашно шли впереди колонны, которую противник встретил шквалом ружейного и артиллерийского огня. И такой пример личного участия Карно в сражениях был не единичен.
Правда, современники отмечали угловатость и крайнюю сдержанность Карно, нередко переходившую в сухость. Характерными чертами Карно как человека являлись твердость и постоянство взглядов, верность своим принципам и убеждениям. Сохраняя верность республиканским идеалам, он голосовал против назначения Наполеона Бонапарта пожизненным Первым консулом, выступал против установления империи. Несмотря на это Наполеон питал к Карно глубокое уважение, высоко ценил его талант как военного руководителя и видного ученого. К тому же он никогда не забывал о той роли, которую сыграл в его судьбе этот человек. 2 марта 1796 г. молодой генерал Бонапарт, в послужном списке которого был лишь удачный штурм Тулона 17—18 декабря 1793 г. и «вандемьерская замятня» (расстрел пушками восставших толп горожан 5 октября 1795 г.) был назначен им на должность командующего Итальянской армией, с которой по сути дела и началась его слава великого полководца.
Карно также отдавал должное Наполеону и как полководцу, и как крупному государственному деятелю, всегда считал себя его сторонником, но никак не мог смириться с его отходом от республиканских принципов и стремлением к авторитарной власти. И, тем не менее, будучи патриотом своей родины, Карно и в конце 1813 г. когда Франция оказалась перед угрозой вражеского нашествия, и в период «Ста дней», преодолев все свои антипатии к наполеоновскому режиму, вновь встал на защиту Отечества в Опасности и доблестно исполнил свой воинский и гражданский долг перед отечеством.
И все же, Карно был, прежде всего, патриотом своей родины, и когда в конце 1813 года она оказалась перед угрозой вражеского нашествия, то он, преодолев все свои антипатии к существующему режиму, вновь встал на ее защиту и доблестно, как один из множества других (не во всем согласных с Наполеоном, отнюдь им не обласканных и порой, совсем ничем ему не обязынных, а даже «задвинутых в глубокий резерв»! ) генералов наполеоновской армии, исполнил свой воинский и гражданский долг перед Отечеством, когда оно снова оказалось в Опасности. То же самое произошло и в период «Ста дней», когда Карно даже пожертвовал своими республиканскими принципами, приняв от Наполеона, чтобы не осложнять с ним отношения, столь презираемые им ранее монархические знаки отличия, звания и титулы.
Однако в дальнейшем изгнанный из Франции и обреченный на нищенское существование убежденный республиканец не поступился своими принципами и не пожелал обменять их на подачки иностранных монархов. Несмотря на все выпавшие на его долю невзгоды и превратности судьбы, Карно в отличие от многих других видных деятелей Французской революции не запятнал свое славное имя отступничеством, не предал своих революционных идеалов и достойно пронес их через всю свою жизнь, закончить которую ему суждено было на чужбине.
Впрочем, схожая судьба порой выпадает лучшим сынам Отечества всех времен и народов, которое в силу ряда обстоятельств нередко не ценит, что они сделали для него…