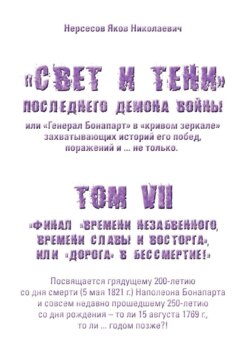Читать книгу «Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том VII. Финал «времени незабвенного, времени славы и восторга», или «Дорога» в Бессмертие! - Яков Николаевич Нерсесов - Страница 8
Часть Вторая
Последний поход «маленького капрала»!
Глава 5. «Предматчевые расклады»: за и против… (продолжение)
ОглавлениеЗато боевые генералы Вандамм, Гийо, Декаэн, Делор, Друо, Дюрютт, Дюэм (Дюгэм), Жакино, Жерар, Келлерман-младший, Клозель, Ламарк, Лекурб, Лефевр-Денуэтт, Мильо, Моран, Мутон (граф Лобау), Пажоль, Пеле-де-Морван, Пти, Рапп, Рогэ, Рэйль, Фриан, Эксельманс, д`Эрлон, некоторые другие и Груши, недавно ставший последним по счету 26-м наполеоновским маршалом, были снова в строю. На них – честолюбивых генералов, а не на уставших от войн маршалов – пришлось Бонапарту опираться в своей последней войне с монархической Европой.
Таков был внутри армейский расклад перед началом той скоротечной кампании, очень образно названной Мишелем Неем «сумасбродным предприятием».
…Между прочим, в чем-то повторялась ситуация с кампанией 1814 г., когда у Бонапарта тоже возник цейтнот времени. Противник уже начал сосредоточение сил и мог привлечь для войны с Францией до миллиона человек, тогда как Наполеон на тот момент мог отправить в бой в несколько раз меньшие силы. Кое-кто из исследователей полагает, что максимум, возможного мог колебаться до 500 тыс. солдат, да и то при условии тотальной мобилизации всех способных держать оружие…
Конечно, можно было перейти к преднамеренной обороне и ждать вторжения союзников на территорию Франции. Подобная оборонительная стратегия, возможно, могла бы хоть и ценой больших территориальных уступок, но, все же, обеспечить временное равновесие сил. Конечно, можно было ждать пока во много раз численно превосходящий противник подойдет к Парижу. Но борьба на территории истощенной Франции при малейшей неудаче могла вызвать взрыв негодования со стороны народных масс, уставших от многолетних непрерывных войн. К тому же, оборонительная тактика была не в характере Наполеона. Более того, он решил не давать союзникам возможности сконцентрировать свои силы и первым начал военные действия. И хотя успех всей кампании лишь частично зависел от начальной внезапности, но для Наполеона скорость нападения была жизненно необходима.
Этот дерзкий план гораздо больше соответствовал французскому национальному характеру. Возможный результат внезапного успеха мог оказаться ослепительным. Решающая победа могла бы одним ударом надежно сплотить французское общество вокруг императора и ослабить волю союзников к борьбе.
Наполеон хотел сначала разобщить армии Веллингтона и Блюхера в Бельгии, поскольку каждая из них имела свою коммуникационную линию, а они расходились в разные стороны – на побережье Бельгии и вглубь Германии. Тройная цепь укрепленных крепостей на границе Франции с Бельгией, позволяла ему относительно спокойно сосредотачивать свои войска и до самого последнего момента скрывать направление своего главного удара. Это вынуждало Блюхера и Веллингтона максимально растянуть все свои силы для парирования нападения Бонапарта на всех возможных направлениях, соприкасаясь друг с другом в районе Шарлеруа. Вот сюда то и собирался нанести свой разящий удар Наполеон. Причем, разгромить их следовало еще до подхода русских и австрийских войск и желательно по отдельности, поскольку вместе они намного его превосходили численно. Гибель военной репутации Веллингтона вполне могла бы привести к падению правительства партии тори (консерваторов) в Англии. Не исключалось, что новое правительство партии вигов (лейбористов) могло бы повести себя более миролюбиво.
Кроме того, после одержанных побед над этими его наиболее решительными противниками («нацией лавочников» и «стаи гончих псов-пруссаков») можно было надеяться на изменения политической конъюнктуры в рядах союзников, в первую очередь, со стороны его отнюдь не воинственного тестя – австрийского императора, чьи войска как всегда «поспешали бы к месту событий – не спеша». Другое дело – Александр I… самая «темная лошадка» среди его венценосных недругов.
…Между прочим, Наполеон попытался сам установить контакт с российским монархом. После возвращения в Париж в его руки попал второпях забытый королевскими сановниками в Тюильри оригинал тройственного военного договора (Австрии, Англии и королевской Франции) от 3 января 1815 г., направленный против гегемонии великодержавной России в Европе. Заверенную копию он немедленно послал через русского дипломата П. С. Бутягина Александру I – благодаря поддержке которого французский король Людовик XVIII, только что был восстановлен на своем родовом престоле. [Правда, по другой версии П. С. Бутягин – выдающийся разведчик, женатый на гречанке из Марселя, подруге Дезире Клари (бывшей невесте самого Наполеона Бонапарта), имевший обширные связи в европейских столицах – сам добыл документальные свидетельства об этом секретном договоре.] Царь, правда, уже слышал о существовании этого договора, но теперь получил реальное подтверждение двуличия своих бывших союзников. Рассказывали, что он пригласил и показал его Меттерниху (главному заводиле этого военного союза против царя Всея Руси), а также спросил, знаком ли ему этот документ? Может, впервые в жизни изворотливый дипломат-«женолюб в 32-й степени» не нашел объяснений, он не знал, что ответить, и молчал. Тогда крайне «непрозрачный», но невероятно прагматичный Александр I очень жестко (категорично!?) заявил ему: «Пока мы оба живы, об этом предмете никогда не должно быть разговора между нами. Нам предстоят теперь другие дела. Наполеон возвратился. Наш союз должен быть теперь крепче, нежели когда—либо». После этого бросил бумагу в камин. В общем, «правитель слабый и лукавый» быстро смекнул, что на данный момент ему выгоднее «закрыть глаза» на происки коварно-вероломного Меттерниха и окончательно разделаться с «врагом рода человеческого». Расчеты Буонапартии не оправдались: любимый внук знаменитой российской императрицы-блудницы Екатерины II был большим мастером выгодных политических комбинаций. Таким образом, французскому императору не удалось рассорить Россию с бывшими членам коалиции и вырвать ее из рядов противников Наполеона. Правда, как покажет время Александр, опираясь на бесчисленные штыки и сабли своей насквозь окуренной порохом 10-летних войн с «Последним Демоном Войны», все учтет и в будущем будет «перекраивать карту Европы» с еще большим учетом российских интересов…
Тем временем, союзники разрабатывали детальный план разгрома выскочившего «словно черт из табакерки» «корсиканского чудовища». К.Ф.Толь и П. М. Волконский 2-й, Гнейзенау и Веллингтон предполагали окружить Париж железным кольцом.
Согласно этому плану, на Рейне создавались три союзные армии: австрийская (с контингентами южногерманских государств) – на верхнем Рейне, во главе с генерал—фельдмаршалом князем К. Шварценбергом; прусская – на нижнем Рейне, во главе с генерал—фельдмаршалом князем Г. Л. Блюхером; английская (с голландским, брауншвейгским, ганноверским и другими немецкими контингентами, нанятыми на британские деньги) в Бельгии—Голландии, во главе с «сипайским» генералом Артуром Уэлсли герцогом Веллингтоном, исправно бившим на Пиренейском п-ве наполеоновских генералов и маршалов. И вот с ним теперь собирался помериться силами сам «генерал Бонапарт». Примечательно, что пиренейских ветеранов у Веллингтона было очень немного, поскольку большая часть его обстрелянных там бойцов была отправлена на войну за океан против Соединенных Штатов. Обе эти армии бездельничали, но если английские офицеры были завсегдатаями великосветских раутов в Брюсселе, то прусские обходились без оных. Русская армия генерал—фельдмаршала графа М. Б. Барклая де Толли должна была составить резерв сил коалиции и подойти в район среднего Рейна, к г. Нюрнбергу.