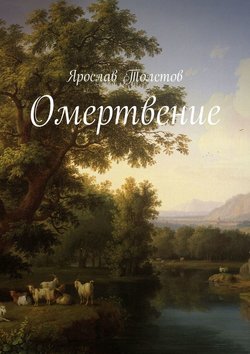Читать книгу Омертвение - Ярослав Толстов - Страница 3
Часть 1
ОглавлениеДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ПАНДОРУ»!
У Энди не было заранее составленной программы
беззаконных и насильственных действий, но он
рассчитывал, что, когда дойдет до дела, его
аморальный инстинкт окажется на высоте положения
О«Генри «Совесть в искусстве»
Яго: …Есть другие.
Они как бы хлопочут для господ,
А на поверку – для своей наживы.
Такие далеко не дураки,
И я горжусь, что я из их породы.
Вильям Шекспир «Отелло»
I.
2001 год.
Если бы в глубоком детстве мне сказали: «Вита! Скоро ты будешь меч-тать о том, чтобы говорить только правду!» – я бы от души посмеялась. Ну и, конечно, не поверила бы. Но в последнее время я иногда с удивлением понимаю, что правды мне не хватает. Иногда даже отчаянно не хватает. Лгать просто, но вот перестать лгать – отнюдь; ложь – как дрянной колю-чий куст, и чем активней ты стараешься отцепить от себя проклятые ко-лючки, тем больше их впивается в тебя. И цветы… ох, как же красивы и душисты цветы этого куста и какие же вкусные он дает ягоды. Но все-таки, нет ничего хорошего в том, чтобы жить собственной жизнью от силы ме-сяца два в год, а все остальное время быть придуманным человеком с при-думанными мыслями и придуманными принципами. Правда, когда мой напарник Женька начинает иногда пространно рассуждать на эту же тему, я его старательно высмеиваю. В собственной голове эти мысли бывают просто тоскливы, но когда их озвучивает весельчак Женька – это жуткова-то – все равно, что рокенрольный ремикс реквиема.
Но прочь, злые девки, совесть и тоска – прочь! Не до вас – ей богу, не до вас! Потому что сейчас я сижу на своем рабочем месте и просматриваю макеты рекламы мебельного магазина «Тристан». Мне следовало бы со-средоточиться на словах, но вместо этого я сосредотачиваюсь на названии магазина, размышляя, какое отношение мог бы иметь прославленный ры-царь с аналогичным именем к кухонным шкафам и мягким уголкам. Смысл названия очень часто играет в рекламе важную роль, на его основе может строиться весь сценарий проекта. Но я не общалась с заказчиками, поэтому смысла названия не знаю.
Еще рано и во всем теле неприятная утренняя ломота. Можно сказать, за ресницы еще цепляются сны, а тело еще слишком живо хранит воспо-минания о теплом одеяле и мягкой постели. Я люблю поспать и поэтому считаю, что работать в такую рань – просто варварство, но деловому миру наплевать на то, кто что любит, – законы времени в нем жесткие – кто спит – остается ни с чем, проспишь лишний час – потеряешь год наработок и так далее.
Не выдержав, я зеваю и все-таки откладываю макет в сторону, и из-за соседнего стола таким же по звучности, но гораздо более тоскливым зев-ком отвечает мне помощница главного бухгалтера. Прямо напротив моего стола – окно, и через приоткрытые жалюзи видно, как идет снег – большие пушистые хлопья. Моя прабабушка, когда еще была жива, говорила о та-ком снеге, что это падают перья с крыльев ангелов. В раннем детстве я в это верила, но теперь-то конечно, как и положено взрослому человеку, знаю, что ангелов не бывает. Вот демонов – сколько угодно. Но снежинки и вправду похожи на перья, которые падают к нам из другого мира. Они отчего-то завораживают, и снегопадом увлечена не только я – многие та-кие же рабочие лошадки задумчиво смотрят в слегка запотевшее окно, за-быв, что в любую минуту может открыться дверь в кабинет зама генераль-ного директора, который такое романтическое созерцание, мягко говоря, не поймет. В полном безветрии ссыпаются к нам из того мира холодные перья – видать, господь бог устроил ангелам хорошую взбучку.
– Красота-то какая! – вздыхает одна из молоденьких художниц. – Вот нет чтобы на Новый год такая погода была! Ох, сказка! Нет, работать сего-дня преступление!
Она смотрит на результат своего преступления, и на ее лице появляется отвращение. Потом извлекает из сумочки пудреницу и помаду и начинает сердито красить губы. Тотчас же распахивается дверь зама – я подозреваю, что у него там скрытый глазок или камера для наблюдения. Зам, высокий и толстый, в марксовской бороде, неторопливо пересекает наш загон – большое прямоугольное помещение, забитое людьми, столами и компью-терами. В правой руке он держит пачку бумаг и кокетливо ими обмахива-ется.
– А-а, трудимся, Скворцова? – говорит он скучнейшим голосом, глядя художнице в затылок, и она слегка ссутуливается – взгляд у зама тяжелый, почти осязаемый. Ничего не ответив, она продолжает работать – и пра-вильно делает. Возражать заму, оправдываться – вообще отвечать что угодно на его замечание равносильно смерти – у него либо начинается аб-солютно женская истерика, либо он уйдет в зловещем молчании, а это еще хуже – жди какой-нибудь пакости, а потом тактично-сочувствующего за-явления шефа, что рекламное агентство «Сарган» уж как-нибудь постара-ется в дальнейшем обойтись без твоих услуг.
– Настен, ты телефониста вызвала?
«Настен» или «Настя» – это я. В данный момент я. Правда, на самом де-ле меня зовут Вита, но замгендиру и вообще кому-либо в «Саргане» знать об этом совершенно не обязательно. Я реагирую на «Настену» и киваю, поправив очки и машинально кося из-под них на макет. Тут же одергиваю себя – нельзя так делать – человек с плохим зрением, каковым я сейчас яв-ляюсь, так бы не сделал. Хоть очки и не настоящие – простое стекло, но раздражают они меня до невозможности, как и обручальное кольцо – пальцы все время так и тянутся покрутить его, снять, выкинуть вон.
– Ладно. Черт знает что такое – второй раз за два месяца телефоны пор-тятся! Разболтались совсем там у себя – тоже, небось, только и делают, что марафет наводят!
Молоденькую художницу внезапно одолевает кашель, а прочие искоса поглядывают на зама с многовековой ненавистью подчиненного к началь-нику. Я же смотрю на него внимательно и с определенной долей угодливо-сти, ожидая новых вопросов или просьб. Моя угодливость тщательно вы-мерена – она должна быть естественна, но при этом не вызывать отвраще-ния или настороженности у коллег. Все хорошо в меру, и нет ничего слож-нее, чем эту меру просчитать – и в настоящей-то жизни сложно, а уж по-пробуй-ка это просчитать в жизни искусственной! Потому-то, в очередной раз заканчивая работу, я и горжусь собой, потому что ошибок не соверши-ла.
– Они сказали, когда придут?!
– Да вот-вот должны подойти, сейчас… – бормочу я и теперь кошусь на зама слегка пугливо, как и положено такому маленькому и забитому суще-ству, как я. Когда начальники смотрят сурово, такие существа неизменно принимают виноватый вид и, возможно даже всерьез считают себя винова-тыми. А мне сейчас выглядеть виноватой и вовсе ничего не стоит – это я сломала телефоны, и как бы растрепалась марксовская борода, узнай она об этом.
– А прэсса? – осведомляется зам с турецким акцентом.
– Почты еще не было.
Замгендир смотрит на меня снисходительно-насмешливо, с легким от-тенком презрительной жалости. Его легко понять. Что он видит перед со-бой? Малохольную пресную забитую девчонку не старше двадцати, пе-пельные волосы стянуты на затылке в узел, одежда хорошая и дорогая, но сидит отвратительно. Девчонка работает отлично, но девчонка работает подолгу, и всегда готова остаться дополнительно, если попросят – значит, домой она не рвется, значит муж у нее придурок. Зам это видит и все это видят, и все так и относятся – насмешливо-снисходительно, снисходитель-но-равнодушно, равнодушно-сочувственно, сочувственно-отечески, отече-ски-доверительно. Именно то, что мне нужно. Но сегодня марксовская бо-рода смотрит на меня в последний раз – это последний день моей работы здесь, и дальше «Сарган» уже поплывет без меня – до тех пор, пока наш заказчик не поймает его на купленную у нас наживку.
– Ага, так-так… – бормочет зам в пространство и скрывается в своем ка-бинете, предусмотрительно оставив дверь полуоткрытой, и я, копаясь в макетах и поглядывая на часы, рассеянно слушаю, как он шелестит бума-гами, приглушенно что-то рассказывает самому себе об «идиотах, которые вечно не дают толком работать» и грохочет трубкой мертвого телефона. Я слушаю, слушаю и уже начинаю слегка нервничать, и когда кто-то легко трогает меня за плечо, то резко вздрагиваю, и мои пальцы, свободно ле-жащие поверх клавиш, вжимаются в клавиатуру, и по экрану монитора ползет удивленно-испуганное «должжжжжжжжжж».
– Ох, напугала, да? – спрашивает с легкой усмешкой одна из сотрудниц, стоящая рядом с моим столом. – Ну прости. Ты случайно не видела…
Но тут выходящая в коридор дверь открывается, впуская в наш сонный загон некое весьма привлекательное существо мужского пола, и сотрудни-ца забывает обо мне, да и весь «Сарган», чей коллектив состоит преиму-щественно из женщин, встряхивает плавниками и настораживается. На го-лове и плечах вошедшего тает снег, глаза смотрят весело и внимательно, и он добродушно улыбается всем нам молодой беззаботной улыбкой и стря-хивает с себя съеживающиеся снежные перья на недавно выскобленный уборщицей паркет.
– «Сарган», да, девчонки? Это у вас телефончики келдыкнулись? – спрашивает он, и «девчонки», большинству из которых уже давно и далеко за тридцать, кивают и хихикают, и кто-то уже начинает отпускать легкие шуточки, и молодой телефонист, стащив вязаную шапочку, тоже начинает болтать всякие глупости, тщательно и беззастенчиво оглядывая наиболее симпатичных. На меня он не смотрит, что, конечно же, не удивительно – какое дело такому симпатяге до маленькой очкастой замухрышки, зарыв-шейся в свои бумаги. И пока телефонист павлинит перед «девчонками», я вытягиваю из-под кучки бумаг на столе заранее спрятанный под нее носо-вой платочек. Внутри него – кусочек бритвы, и я осторожно выдвигаю его наружу, в который раз машинально удивляясь тому, до чего же гладко все складывается. Вот выскакивает позабытая марксовская борода и начинает одновременно гонять сотрудников и скандалить с телефонистом из-за за-держки. Телефонист, не теряя веселого настроения и продолжая рассыпать вокруг двусмысленные взгляды и улыбочки, бодро огрызается:
– Да вы чо хотите?! С утра по городу вызовов море! Так и летят! Ну просто труба! А нас мало! Не могу ж я распятериться – хоть это и понра-вилось бы кому, а?! – он подмигивает сначала заму, потом художнице. Зам чуть ли не силком тащит его к себе в кабинет, но телефонист как-то не да-ется, крутится на месте, что-то доказывает, и пока все внимание оживив-шегося загона приковано к ним, я совершаю некие странные действия. Я осторожно разрезаю кончик одного из пальцев на левой руке и, следя, что-бы кровь не попала на стол, наклоняюсь к клавиатуре и тщательно, щедро вырисовываю от ноздрей до губы влажные красные полосы, потом обса-сываю палец, пока кровь не перестает идти. Плачевный вид создан – те-перь главное сделать подходящее выражение лица, а дальше за меня рабо-тать будут уже коллеги.
Зам и телефонист наконец то скрываются в кабинете, загон постепенно успокаивается. Испачканный в крови платок с бритвой уже давно во внут-реннем кармане пиджака, и я безмятежно окликаю свою соседку – нет ли у нее аспирина, а то жутко разболелась голова. Соседка поворачивается, ее взгляд натыкается на мое окровавленное лицо, и она подпрыгивает, словно кто-то ущипнул ее сквозь сидение полукресла.
– Господи, Настька!!! У тебя опять кровь идет!
Я ахаю, прижимаю пальцы к носу, вижу кровь, снова ахаю и начинаю бестолково вертеться на стуле, судорожно искать платок, ронять бумаги, пытаться вскочить, путаться в собственных ногах и вообще вести себя по идиотски. Остальные принимаются суетиться вокруг, успокаивать меня, пытаться остановить кровь и давать советы – словом, создают необходи-мый бедлам. На шум из кабинета выскакивает окончательно рассвирепев-ший зам.
– Что опять?! – он видит меня, задумчиво тормозит, поворачивается и кричит в оставленный кабинет: – А вы работайте, работайте! И вы тоже! – прикрикивает он на сотрудников, и те разлетаются по своим местам, как послушные ветру опавшие листья. – Давайте-ка ее в туалет! Света, ну-ка! Что ж это такое опять, Настен?! Ну-ка, быстро! Встала-пошла! Какая бе-лая… ты мне, смотри, тут в обморок не хлопнись!
Телефоны забыты. Меня, маленькую, несчастную, еле держащуюся на ногах, препровождают в туалет, помогают отмыться, затем под конвоем ведут обратно. Генеральный выглядывает из своего кабинета и недовольно разглядывает нашу маленькую процессию.
– Что такое, Анастасия Борисовна? Опять давление? Валерий Петрович, будьте любезны на минутку ко мне. Что там, кстати, с телефонами?
Зам, бормоча что-то, скрывается за красивой директорской дверью, ко-торую за ним закрывают аккуратно, словно обложку дорогой книги. Меня же Света отводит обратно в загон.
Время сегодня летит стремительно – так же стремительно, как мысли красивой ветренницы от одного мужчины к другому. Телефонист уже дав-но ушел, «Сарган» деловито прокладывает себе путь сквозь будний день, а я, крепко сжав колени и теребя в пальцах ручку, сижу в кабинете гене-рального и молча, покорно киваю в ответ на каждое его слово. Уже не в первый раз, говорит он, меня подводит мое давление или что там у меня, а это мешает и моей нормальной работе, и нормальной работе коллектива. Разумеется, они не изверги, они все понимают, и я наверняка тоже вхожу в их положение. И, разумеется, речь не идет об увольнении – ни в коем слу-чае! Просто временный отдых, мне необходимо подлечиться, поэтому по собственному желанию… а потом меня с радостью возьмут обратно… ну и, конечно же, я получу определенную сумму. Все это не займет много времени, за сегодня все можно прекрасно устроить… а что говорит врач?..
Фразы летают вокруг меня, цепляясь друг за друга, словно длинные змеи сигаретного дыма, раскрываются, разворачиваются – одна лучше дру-гой – постепенно складываясь в одно нечто определенное, как складыва-ются в один рисунок узоры на пластинках разворачиваемого веера. Я при-хлебываю сок, который принесла красавица-секретарша Алла. Я смотрю на холеное директорское лицо. Я киваю. Я со всем согласна.
В пять часов вечера я покидаю «Сарган», расстроенно попрощавшись с коллегами, и ухожу несчастной разбитой походкой, и на улице холодные перья мгновенно засыпают мое мешковатое синее пальто.
Я иду осторожно, стараясь не поскользнуться – все никак не могу при-выкнуть к обуви с плоской подошвой – обычно я хожу на высоченных каб-луках, потому что ненавижу свой маленький рост, и кое-кого это здорово потешает. Перчатки – в карман, в них нет нужды – вокруг совсем не хо-лодно, безветренно и так странно тихо, хотя я в центре большого города. Белая пелена приглушает все звуки, и все, кажется, замедлило свое движе-ние до минимума, застыло – и люди, и машины, и время… все укуталось в тишину, в белые перья и тонкие нежные сумерки. Похоже на забытую сказку из глубокого детства – красивую, но почему-то печальную сказку, которую кто-то потерял в этом городе. Я прибавляю шаг – у меня уже не так много времени. Угол, подземный переход, а вот и телефонные будки, высмотренные уже давно. Трубку на том конце снимают сразу же.
– Ну, что, у меня все нормально, – говорю я, машинально стряхивая снег с берета. – Я еду домой.
– Ладно, мы собираемся. Как палец?
– Дурак! – отвечаю я, вешаю трубку и иду ловить машину. Хочется за-курить – хочется отчаянно, но Настя, которой я сейчас являюсь, в жизни не стала бы курить на ходу. Пока я в этом городе, я не Вита – Витой я стану только вернувшись в родной Волжанск, город арбузов, рыбы и ворон.
Мое полное имя – Викторита. Это дурацкая шутка моих первых родите-лей – когда я родилась, они все никак не могли решить, как меня назвать. Отец хотел дочь Викторию, мать же желала, чтобы ее чадо откликалось на Маргариту. В конце концов они пришли к компромиссному решению – распороли оба имени и сшили из лоскутов одно, каковое и присвоили мне. Друзья – хорошие, настоящие – не раз говорили мне, что я зря расстраива-юсь – имя как имя, очень даже ничего. Может они и правы, только мне все равно не нравится жить под именем, похожим на название какого-то сор-няка. Правда, в «Пандоре» никто не называет меня полным именем – там я Вита, Витка и Витек. Но вот уж действительно правду говорят, что имя определяет человека, его судьбу. Имя у меня дурацкое, и жизнь сложилась по-дурацки.
– На Марата, пожалуйста, к школе. Только быстро.
– Садись.
«Опелек» летит сквозь снег, словно призрачный корабль, и дворники отчаянно машут, не успевая оттирать стекло. Я, съежившись в кресле и прижав к груди сумку, рассеянно смотрю на усталый, зимний рабочий ве-чер – я тоже лечу сквозь снег вместе с кораблем, и почему-то мне сейчас кажется, что я из другого мира, а тот, за запотевшим стеклом, мне незна-ком. Наверное, я опять соскучилась по дому.
– Вот здесь остановите. Подождете минут десять?
– А ехать далеко?
– На вокзал.
– Ну, давай.
Собирать вещи не нужно – все собрано еще со вчерашнего вечера, да и вещей не так уж много. Быстро побросать в сумку все оставшееся, глянуть в зеркало, запереть дверь, отдать ключи соседке – вот и все сборы – за квартиру я заплатила заранее. Билет на поезд, тоже взятый заранее, уже покоится в сумочке – мой пропуск домой. Все – скорей, скорей в машину и на вокзал сквозь припоздавшую зиму. Ворчи, шофер, на здоровье по пово-ду погоды, пугай гудками зарвавшиеся машины, сейтесь, перья, погребая под собой хмурый вечерний город, – мне наплевать – я еду домой!
Мой поезд уже у перрона, кругом обычная суета, огромный вокзальный муравейник людей с чемоданами, баулами, тугими сумками, и над всеми царит хриплый и, как и положено на вокзалах, совершенно неразборчивый женский глас. Люди послушно внимают ему. Божество вокзала, и алтарь его – кассы, и оракулы его – огромные светящиеся табло, и подчиненные духи его – шипящие, ревущие поезда… Фу ты, какая глупость иногда лезет в голову!
В моем купе уже сидит какой-то серьезный старец и читает изрядно по-трепанную «Бурю» Эренбурга, рядом с ним молодая женщина сосредото-ченно очищает душистый апельсин, и из-под ее пожелтевших от шкурки ногтей то и дело выстреливают крохотные фонтанчики. Я раскладываю вещи и сажусь у окна, положив локти на стол. Сижу и смотрю на малень-кое детское кольцо на своем правом мизинце. Кольцо посеребренное, с за-бавной божьей коровкой – совсем не подходящее для двадцатипятилетней дамы. Когда-то я носила его на среднем пальце, теперь же оно налезает мне только на мизинец. Кольцо это подарил мне на восьмилетие двоюрод-ный брат Венька, за два месяца до своей гибели, и с тех пор я с кольцом не расстаюсь. На время «заданий» оно висит на цепочке, надежно спрятанной под одеждой.
Я сижу долго – до тех пор, пока поезд не трогается, пока не уплывает вокзал, пока под успокаивающий перестук колес не растворяется в гус-теющей снежной темноте большой старый город, и не остаются только бесконечный простор да темные мрачные силуэты голых деревьев, протя-нувших ветви навстречу снежинкам. Деревья словно гонятся за поездом, пытаясь поймать его и оставить навсегда в заснеженной пустоши, но поезд проворней, он летит вперед, и мне уже спокойно. Я беру свою сумочку и выхожу из купе.
В коридоре довольно людно – ходят, смотрят в окна, смеются, многие купе открыты. Я быстро прохожу через вагон, потом через следующие два и на площадке за туалетом останавливаюсь. Здесь спиной ко мне стоит че-ловек в джинсах и дубленке и рассеянно смотрит в окно. Оно приоткрыто, и в щель радостно залетают снежинки и оседают на волосах стоящего, а он едва слышно мурлычет себе под нос песенку Джо Дассена: «О-о-о, Шан Зелизе, о-о-о, Шан Зелизе… парам-парам, парам-парам…»
– Это не вас я видела с блондинкой в среду? – спрашиваю я, подходя к нему вплотную и приподнимаясь на цыпочки.
– То была брюнетка, – произносит человек загробным голосом, оборвав песенку, и, не оборачиваясь, протягивает мне руку. – Смит, агент.
– Тоже агент, – отвечаю я и руку пожимаю. Тотчас же человек повора-чивается и хватает меня в охапку и совсем близко от себя я вижу его смеющиеся карие глаза. Совсем недавно мы вели себя совсем по другому, когда я в очках смотрела на него из-за монитора, а он весело болтал с со-трудницами «Саргана», когда я была Настей, а он – незнакомым телефони-стом. Но сейчас я – Вита, а он – Женька, друг и партнер, на которого я все-гда и во всем могу положиться.
– У тебя жуткий вид! – радостно говорит он и перехватывает меня по-выше. – Ну, как все прошло?
– Как обычно, вроде бы нормально.
– Тогда, дитя, быстро поцелуй дядю, – предлагает Женька, и минут де-сять мы ни о чем не разговариваем. Потом, вспомнив что-то, он отпускает меня и начинает смеяться.
– Да, выглядела ты, конечно… господи! Я в первый раз как увидел эти очки, вылезшие из-за монитора, чуть богу душу не отдал! Хоть и знал, что и как будет, а все равно непривычно, зная, какая ты на самом деле. В про-шлый-то раз, в «Парфеноне» ты была такая симпатяшка, ну просто… А как коллеги-то на тебя реагировали – как и рассчитывала? Не перегнула ли ты палку? Ну-ка, доложись.
– Докладываться я буду Эн-Вэ, когда приеду, – отвечаю я надменно и достаю сигарету. – Впрочем тебя, мальчик, как начинающего, могу про-консультировать – исключительно из дружеских побуждений. Данный случай – минимум макияжа, минимум пафоса, – я закуриваю, – но в меру. Ну, в этот раз образ был более ярким в смысле тусклости, потому что кол-лектив бабский, а так же с учетом основного возраста. А вообще важно не переборщить, важно не насторожить и важно не оставить о себе воспоми-наний. Была – и нет. А может и не была. Красавицу, Жека, запомнят все, уродину или полное чмо, забитое, зашуганное, в старушечьей кофте не то, что хорошо запомнят, но могут и просто на работу не взять. А обычная ли-нялая кошка с небольшой авоськой комплексов – это ничего. И кто о ней вспомнит вскорости? Никто.
– Умница, – говорит Женька, и совершенно не понятно, кого именно он хвалит. – Старый дядя Женя правильно тебя воспитал.
– Ты тут совершенно не при чем, просто во мне хорошо развита спо-собность к адаптации и я умею не оставлять после себя никаких воспоми-наний. Я не могу сказать, что я очень умна или очень хитра, я просто хо-рошо умею притворяться, умею жить придуманной жизнью, становиться придуманным человеком – вот и все. Любовь к притворству заложена во мне с детства. Именно поэтому ты в свое время и заманил меня в свою но-ру, старый лис!
Женька снова улыбается – на этот раз не без самодовольства. Он старше меня на четыре года и взрослее лет на пятнадцать. Внешность его, не вда-ваясь в подробности, можно описать двумя словами – симпатичный хам. Он среднего роста, его густые темные волосы коротко острижены, он но-сит короткую челку «перьями», что отнимает немало серьезности у его и без того несолидной физиономии, а в левом ухе – серебряное колечко. Он – отнюдь не стереотипный персонаж с каменным подбородком, который чуть что начинает сдвигать брови и играть желваками на мужественном лице. В той ситуации, где персонаж играл бы желваками, Женька может лишь безмятежно фыркнуть и отшутиться, а потом сделать какую-нибудь разумную гадость. И лицо у него не такое уж мужественное – в его внеш-ности больше сахара, чем соли, и кажется он просто лишь этаким симпа-тичным нахальным кретином. Но это если не приглядываться к его глазам. У Женьки глаза черта – хитрющие и умные.
Именно он когда-то вместе со своим старым армейским приятелем Максимом и основал «Пандору». «Как ты помнишь, по древнегреческой мифологии Пандора была некой дамой, посланной Зевсом в наказание лю-дям, – пояснял он мне как-то невесело, – создание с лживой и хитрой ду-шой, несущее соблазны, несчастья и гибель. И ты, конечно, помнишь небе-зызвестный сосуд, который она открыла, и что из этого вышло. По сути, мы делаем то же самое – хитрим, лжем и открываем сосуды с информаци-ей, в каком-то смысле несущей гибель. Такая вот метафора».
Самостоятельно «Пандора» смогла просуществовать лишь год, а потом Женьку и его коллег прижали, и им пришлось уйти под большого папу. Под кого именно – не знаю – никто из них не любит это обсуждать. Мак-сим, не пожелавший терять независимость, плюнул и ушел, закончил свой мединститут и подался в частную клинику. Женька же стиснул зубы и ос-тался. Но теперь он уже был подчиненным, теперь появился Эн-Вэ, по-ставлявший задания и отсчитывавший проценты, и «Пандора» стала лишь одной из нескольких контор подобного рода, разбросанных по всему быв-шему СССР. Вот в то время я и попала в нее.
Мне было двадцать два, и я как раз собиралась официально покинуть крупный магазин видеотехники и бытовых товаров «Кристалл» в Энгельсе. В последнее время на «Кристалл» обрушились несчастья. Вначале в одном из отделов ни с того ни с сего вспыхнул пожар. В принципе, никакого ущерба он не принес, но переполох был большой. Потом почти следом за этим неожиданно прохудилась труба в служебном туалете. Пока все мы спешно спасали вещи и в магазине царил ремонтный кавардак, у хозяина магазина случился семейный скандал – жена вычислила одну из его моло-деньких любовниц и, будучи женщиной импульсивной, несдержанной и, к тому же, до крайности ревнивой, прикатила прямо в «Кристалл» и прямо там же устроила мужу великолепнейшую сцену. Пока хозяин выпроважи-вал ее и пытался усадить в машину, из его кабинета пропала тысяча долла-ров – часть денег, которые должны были срочно пойти кому-то в уплату за что-то. Потом вдруг нагрянула налоговая проверка, долго что-то искала и, ничего не найдя, удалилась, успев изрядно всем потрепать нервы. Все это произошло почти одновременно, хозяин разрывался на части, рвал и метал и тряс сотрудников, но не то чтобы неактивно, а словно бы для проформы. Никакой милиции в «Кристалле» не появилось ни разу, но стали часто присутствовать серьезные мальчики с маленькими острыми глазами, от взгляда которых было очень неуютно. На меня внимания обращали не больше, чем на остальных, иногда даже и меньше – маленькая, в усмерть перепуганная, глуповатая девочка была малоинтересна.
Уходить я собиралась не сразу – нужно было немного выждать. И когда я уже почти чувствовала себя в безопасности, как-то вечером на улице ме-ня остановил молодой охранник Женька, пришедший в «Кристалл» почти одновременно со мной и до сих пор почти со мной не общавшийся. Он от-вел меня в сторону и ударил сразу же:
– С женой получилось веселее всего, но брать деньги у таких людей глупо, дитя мое. Хорошо хоть хватило ума брать не все, но все равно глу-по. Глупо и опасно. Красть нужно не деньги – красть нужно другое – то, что менее заметно, но более ценно.
Я заявила, что совершенно не понимаю, о чем он говорит и чего от меня хочет.
– Я хочу, чтобы ты работала у меня, – сообщил мне Женька так просто, словно предлагал сигарету. – Дилетант ты, конечно, страшный, но задатки у тебя есть – немного развить, и получится то, что нужно. Мне надоели кретины, которых подсовывает мне Эн-Вэ, а ты вполне подходишь. Ну, что скажешь? Думай быстрей, времени у тебя мало. Мне нужен быстрый и четкий ответ.
Я снова сказала, что совершенно его не понимаю, чтобы он отстал от меня, а то я позову на помощь. В свете фонаря он должен быть прекрасно видеть, как искренне расстроенно и возмущенно дрожат мои губы.
– Ладно, хватит ваньку валять – не понимаю, не знаю! – сказал «охран-ник», начиная раздражаться. – Ты поедешь со мной – хочешь ты того или нет, Викторита Кудрявцева, семьдесят шестого года рождения, пятый род-дом города Волжанска, филолог экстерн, курс журналистики, полкурса психологии, волосы изначально каштанового цвета, на правой щиколотке длинный шрам… так, что у нас еще… секретарша ЧП «Орион» в Красно-слободске… стоп! Куда?! Я еще не закончил! – он проворно поймал меня за руку, когда у меня неожиданно сдали нервы и я попыталась улизнуть. – Взрослый человек и ни грамма вежливости! Никогда не одобрял ухода по-английски. Далее: уборщица в саратовском диско-баре «Ива». Один из ад-министраторов симпатичного псевдокитайского ресторана «Золотая доли-на» в Камышине – а вот там ты сработала грязно, очень грязно и кое-кто жаждет с тобой по этому поводу встретиться. Но это легко уладить. Ну, как? Хочешь сигаретку?
– Даром топчешься, – ответила я, но сигаретку взяла и прикурила. – Ты меня явно с кем-то перепутал. Я в жизни не была в Камышине, не знаю никакого «Ориона» и уж подавно…
– Знаешь, подруга, а ты начинаешь меня утомлять, – сообщил мой собе-седник с явным сожалением, а потом придвинулся вплотную, и на меня пахнуло слабым ароматом клубники. – Или ты соглашаешься, или я при-митивно сливаю тебя всем этим злым дядькам. А они тебя найдут везде. Ты, конечно, догадываешься, что могут сделать злые дядьки с такой ма-ленькой зарвавшейся девочкой? Далеко ходить не будем – начнем прямо с «Кристалла» и прямо же сейчас я назову тебе не меньше пятнадцати при-чин, по которым мне там мгновенно поверят. Мою работу ты все равно уже завалила, так что…
Когда он дошел до третьей причины, я сказала, что согласна и швырну-ла в него его же сигаретой.
– Вот и умница, – добродушно отозвался Женька, небрежно увернув-шись. – Сейчас ты пойдешь со мной. О «Кристалле» не беспокойся – на-сколько могу судить, вычислил тебя только я, но я-то на таких, как ты, на-таскан, так что не бери к сердцу. Повторяю, сейчас ты пойдешь со мной. Ну, а деньги, конечно, придется вернуть. Ничего, не расстраивайся, Витек, – он усмехнулся. – Кто тащит деньги – похищает тлен, иное – незапятнан-ное имя – как шутил шекспировский Яго. Отныне ты будешь заниматься более нужным делом. Пойдем, дитя. И добро пожаловать!
Так я попала в «Пандору» – более того, снова оказалась в Волжанске, из которого сбежала когда-то. Вначале я собиралась было снова сбежать, но потом присмотрелась, оценила и прижилась. Мне даже начало нравиться в ней, хотя неприятные и постыдные воспоминания о вербовке присохли к памяти навсегда, и первое время я ссорилась с Женькой постоянно. Мне, человеку мирному и даже где-то пацифисту, хотелось его убить. Я думала, что буду ненавидеть его до конца своих дней. А спустя три месяца я пере-ехала к нему на постоянное жительство. Вот так.
Нас, пандорийцев, сложно назвать серьезными шпионами – мы, скорее, мелкие пакостники. Как муравьи-разбойники проникают в чужой тщатель-но выстроенный муравейник, так мы в качестве хороших и безобидных ра-ботников проникаем в чужие фирмы, магазины, рестораны и телецентры и скрупулезно собираем информацию – от бухгалтерии до тщательнейшего психологического портрета коллектива – в зависимости от пожеланий кли-ента. А их цели в основном незатейливы – либо перекупить, либо сильно подточить, либо просто уничтожить, но мирно, бескровно, без криминала. Люди к нам обращаются самые разные – пару раз были даже жаждавшие справедливости обкраденные изобретатели, не прислушавшиеся к правилу: «Не изобретайте да не запатентованы будете!» Нас швыряет по всей стра-не и в Волжанске мы живем от силы полтора-два месяца в году, наша жизнь сумбурна и опасна, мы несемся по ней, словно по бурной реке меж-ду камнями и никогда не знаем, что будет с нами завтра, мы прячемся в искусственных личностях, мы лжем и хитрим, мы воры и сволочи, но уже за несколько лет одной жизни мы видели и прочувствовали столько, что хватит на много десятков жизней. Не могу сказать, что мне очень нравится то, что я делаю, но мне доставляет удовольствие то, как я это делаю.
– Ты все свои штучки успел вытащить из телефонов? – тихо спрашиваю я, оглядываясь, и Женька презрительно фыркает.
– Нет, оставил пару на память! Господи, – он смеется, – помнишь, как я сунулся в телефон одной безобидной фирмочки, чтобы поставить свою цацку, а там уже стоит одна – государственная. Ох, и мотали же мы тогда из этой фирмочки!
Он вытаскивает из кармана пластинку клубничной жвачки, сует ее в рот и, жуя, говорит:
– Все, сегодня больше ни слова о работе. Обсуждать, что и как, будем уже в родных стенах. Отчитаемся перед старым сморчком Эн-Вэ и займем-ся друг другом и нашим отпуском. И пусть только этот трухлявый гриб попробует тут же заслать нас на дело!.. Я лично утоплю его в раковине. Слушай, – он неодобрительно косится на мою сигарету, – когда ты бросишь свою отвратительную привычку?
– Моя привычка не менее отвратительна, чем твоя. Пережевывая жвач-ку, ты мало того, что портишь зубы, но и заставляешь свой желудок посто-янно вырабатывать желудочный сок, в который нечего бросить. А это – прямая дорога к гастритам и язве. Вот так-то, Зеня!
– Будь добра, не дыми на меня – ты мешаешь мне постоянно вырабаты-вать желудочный сок, – Женька слегка по-детски насупливается – он тер-петь не мог, когда я шутки ради начинала коверкать его имя, называть Же-кой, Женюрой или еще хуже – Джонни. – Лучше пошли укусим чего-нибудь – я голоден, как сто собак! Хочу штук десять хороших отбивных, много-много вареной картошки и пива!
Я выбрасываю сигарету в окно, приподнимаюсь на цыпочки и стряхи-ваю снежинки с его волос. Он послушно наклоняет голову.
– Как ты думаешь – у них есть охотничьи колбаски?
– Витка, ты уже всех достала своими охотничьими колбасками! Тебя скоро можно будет вычислять по охотничьим колбаскам, как белку по оре-ховой скорлупе. Пошли, дитя, насладимся взаимным обществом за хоро-шим ужином, пока не появился этот экзистенциалист Артефакт, не нака-чался коньяком и не погрузил нас в пучины мировой скорби.
Охотничьих колбасок в меню вагона-ресторана нет, и я ем сосиски с майонезом, запивая их персиковым соком. Но мне все равно – в хорошей компании и сосиски едятся весело. Я давно не видела Женьку вот так, сво-бодно, без притворства. Мы сидим одни – сидим долго и успеваем всласть наговориться, прежде чем к нам подходит, наконец, Артефакт. Артефакту двадцать четыре года, он высок, невероятно худ и обладает большим уве-систым носом, похожим на клюв тупика1. Артефакт – гений техники и в трезвом виде удивительно самодостаточный человек, этакая вещь-в-себе, не нуждающаяся ни в общении, ни в друзьях, ни в женщинах, ни в развле-чениях. Ему вполне хватает самого себя. Но когда он хорошо выпьет, то срочно начинает нуждаться в собеседниках, которым втолковывает свои соображения о тщетности всего сущего. А после каждого дела он пьет очень хорошо. Сейчас тонкие губы Артефакта раздвинуты в вялой улыбке, такой неопределенной и странной, словно он позабыл ее там несколько не-дель назад.
– У-у, – говорю я, – прибыла тяжелая артиллерия. Садись-ка рядом со мной, Женька – встретим достойно этого монстра, когда он опять начнет просеивать наше человеческое существование через сито тоски и безыс-ходности. И ешь быстрей, пока он чего-нибудь не заказал. Он извращенец. Я сама видела, как он бросал сыр в красный борщ и мазал кусок яблока минтаевой икрой.
Артефакт присаживается за наш стол с неизменной бутылкой «Москов-ского», приглаживает длинные маслянистые волосы, молча наливает конь-як в три рюмки, молча берет свою, то же самое делаем и мы. Рюмки со-прикасаются в полном молчании – соприкасаются тихо, шепотом. Таков обычай – не спугнуть удачу, которая, вроде бы, и на этот раз шла рядом с нами от начала и до конца. Удача – девочка трепетная, нервная. И бурно радоваться не стоит – услышат боги, а боги бывают завистливы – уведут девочку, запретят приходить. А так – вроде бы порадовались и в то же время никто не услышал. Это просто обычай. Не знаю точно, как другие, а я не суеверна, хоть над моей кроватью и висит деревянная голова гвиней-ского демона против плохих снов. Не то чтобы я верю в это, просто мне нравится сам этот факт и нравится упрямый демон, который загадочно и жутковато разевает толстогубый рот в беззвучном вопле, пытаясь распу-гать мои плохие сны. А плохих снов после ужаса далекого детства мне хватает до сих пор.
Вначале разговор наш вполне обычен и спокоен. Женька продолжает веселиться, вспоминая почти законченное дело, я рассказываю несколько историй, которых пришлось наблюдать по ходу работы, Артефакт молчит, что лучше всего. Но с течением времени количество выпитого им коньяка неумолимо возрастает, в его мозгах начинается паводок, лед самодоста-точности взламывается, и он начинает толковать нам о том, как все плохо в этом мире и как гнусно устроено наше общество.
– Тебе, Петро, жениться надо, – замечает Женька в перерыве между рюмками. – Детей завести.
– Я не убийца своим детям! – ворчит Артефакт, слегка покачивает голо-вой и аккуратно заглаживает волосы за уши, словно первоклассница перед зеркалом.
– В каком смысле? – спрашиваю я, рассеянно оглядывая вагон-ресторан. Он уже начал пустеть. За одним из столиков сидит в одиночестве довольно крупный мужчина заграничного вида и то и дело поглядывает на нас с лю-бопытством. Перед ним стоит почти пустая бутылка сухого вина.
– А в таком. Ну будут у меня дети и что? Будут так же бухать и воро-вать, как и я.
– Зависит от того, как ты их воспитаешь, – осторожно говорит Женька. Ему явно не хочется продолжать этот разговор.
– Совершенно не зависит, потому что жизнь нам диктуют не родители и не мы сами, а гнилое общество, в котором мы живем. А что можно ждать от такого общества?! Кому можно выжить в стране, где в цене лишь ворю-ги и торгаши, где честность равносильна глупости, а интеллектуальный труд ценится ниже дворницкого?! Ведь если так подумать – разве мы воры по призванию?! Нет, по обстоятельствам, по воле общества нашего, мать его за ноги! Да дай ты мне работу по специальности с нормальной оплатой – разве ж я бы…
– Тише, товарищи, кругом немцы, – бормочу я недовольно – Артефакт уже расходится, и в пустеющем вагоне-ресторане его голос слышится дос-таточно отчетливо. Техник затихает, поднимает рюмку с коньяком и начи-нает разглядывать меня сквозь коричневатую жидкость. Наверное, то, что он видит, ему не нравится, потому что Артефакт кривится и произносит устало:
– А вообще ни в чем нет смысла. Во мне нет. В вас нет. Ничего переде-лать невозможно, все останется по-прежнему, всем друг на друга напле-вать, воровство – образ жизни и вообще – все мы только чей-то дурной сон, чья-то наркотическая иллюзия. Поскорей бы он уже пришел в себя, чтобы все это закончилось, – он небрежно швыряет коньяк в рот и с шумом выпускает воздух сквозь сжатые зубы. – Вообще, всем нам нужно умереть, чтобы понять, как нужно жить. Так и не иначе. Все бесполезно.
– И делать что-то нет смысла – да? – интересуюсь я без особого энтузи-азма. Разговор этот заводится уже не в первый раз, и почти все, что скажет Артефакт, я знаю наизусть. – Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа – кажется, так выражался небезызвестный Екклесиаст? Тебя послу-шать, так каждый человек должен прожить всю жизнь на отдельной плане-те без общества и соблазнов, ничего не делая, потому что в этом все равно нет смысла. А вообще, смею тебя заверить – даже живи ты в идеальном обществе с правильными законами и честно – ты все равно будешь недо-волен. Такова суть твоей натуры – стремление к неустроенности. Если во-круг будет идеальный порядок – ты найдешь неустроенность в порядке.
– Жек, че это она имеет в виду? – спрашивает Артефакт и разливает по рюмкам остатки коньяка. Женька глубокомысленно пожимает плечами.
– Думаю, она хочет сказать, что ты ее достал. А вообще, Петька, ты со своими рассуждениями чертовски похож на кошку, которая крутится на месте, пытаясь поймать собственный хвост. Смыслы, цели, задачи… Лю-бой человек прежде всего живет для того и так, чтобы быть счастливым – вот единственная цель, смысл и задача – живет он в Париже, в Аддис-Абебе или где-нибудь в Голышманово. Просто каждый идет к этой цели по своей дороге. А что касается всех тех страхов, о которых ты плачешься, так есть несколько вещей и пострашнее, – он выпивает свою порцию, при-чмокивает губами и крутит головой. – Нет, все-таки это ужасно – коньяк после пива…
– Что может быть страшнее? – интересуется задетый за живое мегапес-симист.
– Страшнее? Например, когда ты увидишь, что твой ребенок умирает.
– Так я ведь…
– Когда тебя продаст лучший друг, – Женька наклоняется ближе к нему.
– Так у меня ведь…
– Когда поймешь, что все, что казалось тебе истинно правильным – твои мысли, твои поступки – все это бредово, напрасно, бессмысленно и бесче-ловечно – и поймешь это за секунду до смерти. Ну, и еще много чего.
Минуту Артефакт внимательно изучает сначала Женьку, потом меня, а затем делает вывод.
– Короче, вы меня совершенно не понимаете.
– А как же, – тут же отвечает Женька. – Если б все друг друга понимали, представляешь, какая была бы тишина на земле. Коли ты собираешься брать еще бутылку этой отравы, закажи заодно и кофе для меня, а для нее еще сока – ребенку не хватает витаминов. И сам бы употребил заодно. Из-быток философии случается обычно от недостатка витаминов.
Я думаю, что неплохо бы было уже пойти спать, хотя особой усталости не чувствую. Но спустя несколько минут заграничный человек за соседним столом неожиданно начинает проситься к нам, выговаривая русские слова с сильным мяукающим акцентом. Это крупный мужчина лет сорока, боль-шеротый, с жестким квадратным надменным подбородком, и он уже не-плохо выпил. Мы принимаем его из чистого любопытства – никогда не знаешь, для чего пригодится то или иное знакомство, хотя, с другой сторо-ны, иногда оно может и напортить. Но, судя по поблескивающим глазам Женьки и по состоянию человека, скоро гость выпьет столько, что завтра вряд ли сможет нас вспомнить.
Заграничный гость оказывается неким Дэниелом Гудхедом откуда-то из штата Нью-Йорк, направляющимся, как становится известно чуть позже, в Волжанск утрясать какие-то вопросы с поставкой рыбы и рыбных продук-тов для одной фирмы. Артефакта заграничный Дэниел мало волнует, но на нас Женькой американец неожиданно действует как воробей с подбитым крылом на голодных кошек. Не то чтобы мы были националистами, а я даже лично знала несколько вполне нормальных штатовских людей. Но в лице Гудхеда перед нами та самая Америка, которая, что называется, сидит на планете ноги на стол, полагающая себя неким высшим божеством, обя-занным управлять и поучать других, а в случае чего и наказывать – без нее и дождь не смеет пойти. Его речь, несмотря на слегка заплетающийся язык, надменно-снисходительна, русским языком он владеет неплохо, но небрежно, словно одолженной у невзыскательного соседа лопатой. Внача-ле мы ведем с ним вполне мирную беседу, и Гудхед ухмыляется и пьет ви-но – сперва немного застенчиво, но потом, умело подтолкнутый Женькой, начинает хлестать его как воду. Женька делает то же самое, но Женька – это отнюдь не Дэниел Гудхед. Вскоре они начинают препираться на раз-ные темы, причем американец отчего-то усиленно наседает на итальянцев, жалуется, что проклятые макаронники заполонили все побережье и лезут в правительство – мало того, что всюду черномазые, так теперь еще и эти со своими дурацкими традициями, и честным, чистокровным американским людям скоро вообще места в Штатах не останется… скоро, мол, уже и Америку переименуют в какую-нибудь Сицилику или того хуже и в таком же духе. Он, Гудхед, конечно не расист, но каждый должен знать свое ме-сто.
– А нынешнее название страны вас устраивает? – вкрадчиво спрашиваю я, и Женька ухмыляется в свою рюмку, поняв, куда я клоню. Гудхед смот-рит на меня непонимающе – что за вопрос – конечно же. Тогда Женька и говорит этак небрежно, словно, по выражению О. Генри, ковбой, зааркани-вающий однолетку:
– А Америго Веспуччи был, между прочим, флорентинец.
– А Флоренция ведь, кажется, в Италии? – противно подпеваю я. Гудхед багровеет и начинает что-то сердито бормотать. Тут бы нам откланяться и уйти по скромному, но Женьку уже понесло.
– Традиции, – шипит он, – чужие традиции… вы бы со своими вначале разобрались! Кто вы как нация вообще – сборняк, не более того, а как вы любите другим рассказывать про то, какими они должны быть. Чего там ходить далеко – взять хотя бы ваши фильмы. Вы же, снимая про других, даже не утруждаете себя изучением истории и культуры страны, про кото-рую вы их снимаете! Как режиссер и автор сценария скажут, такова и бу-дет история и культура – лишь бы было красочно, зрелищно да массово. Вот про нас фильмы – что не посмотришь, так постоянно – раз русские, значит все сплошь и рядом КГБшники и либо все в валенках и постоянно идет снег, либо все с балалайками, в бане и нет туалетной бумаги. Вот раз-ве что прогресс большой, да? – если раньше мы были ну полными злобны-ми идиотами, то сейчас мы представляемся этакими симпатичными jelly-fish кретинами, которые даже знают, как пользоваться компьютерами! Почему это у вас взрослый русский мужик, увидев где-то там в степи зи-мой кусок льда, бросается и начинает его пожирать, утверждая что это лучшее лакомство в мире. И в водку лед у нас не бросают – это ваша иди-отская привычка! И неужели во всей Америке невозможно найти для ролей русских людей русскоязычных актеров, если уж вам так нужна в фильме русская речь, – ради бога?! И уж совершенно ни к чему приписывать нам такое же полное отсутствие логики, каким богаты ваши чисто американ-ские герои… Вот уж верно описывал Гарри Гаррисон съемки типично американского фильма: «Вы берете вашего викинга и называете его Бенни или Карло, или другим хорошим скандинавским именем» – и вперед, сни-мать сагу о викингах! Сэ нон э вэро, э бэн тровато!
На секунду он замолкает, чтобы глотнуть из рюмки, и мы с Артефактом пользуемся этим, чтобы утащить Женьку из вагона-ресторана, оставив со-вершенно ошарашенного Дэниэла Гудхеда в одиночестве сидеть за столи-ком.
– Пустите, – сердито говорит Женька через два вагона, – я еще не так уж пьян. Простите, люди, просто не удержался, ну, бывает. В конце концов, что я сказал неправильно?! Да как этот бройлер… нет, ну я-то знал нор-мальных парней из Штатов, но этот…
– Ну, сказал, ну и что? – меланхолично замечает Артефакт. – Ну, вы-слушал он. А какой в этом смысл? Он, небось, и половины не понял, да даже если б и понял… Все, пока, пошел я спать!
Он удаляется, оставляя нас наедине. Женька хмуро смотрит в окно, по-сле чего набрасывается и на меня.
– А ты-то, кстати, как себя вела, пока меня рядом не было в твоем «Сар-гане», а? Смотри у меня!
Он неожиданно хватает меня и ловко проворачивает в узком коридоре несколько па танго, напевая вполголоса:
– И одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске!
Женька профессионально отклоняет меня на согнутую руку так, что мои волосы почти касаются пола, но я не боюсь, что он меня уронит. Дол-гое время он серьезно занимался бальными танцами и иногда вдруг начи-нает усиленно меня учить, хотя я, надо сказать, в этом отношении ученица довольно бестолковая. Школа бальных танцев, обычная средняя школа да окружающий мир – этим исчерпывается его образование – заканчивать ка-кие-то высшие заведения ему как-то не пришлось. Но Женька прочитал уйму книг, и если я и не всегда смотрю ему в рот, то только потому, что это невежливо.
Какая-то толстая тетка, идя по коридору от туалета с полотенцем, зуб-ной щеткой и тюбиком пасты, обзывает нас «пьяными идиотами».
– Невозможно работать! – говорит Женька и делает вид, что роняет ме-ня, и я взвизгиваю. – Насчет идиотов не знаю, мадам, ибо только идиот будет утверждать, что он не идиот, но насчет «пьяные» вы совершенно правы. Мы пьяны, мадам, пьяны жизнью!
«Мадам» протискивается мимо нас с удивленной руганью, и он качает головой, потом целомудренно чмокает меня в лоб.
– Иди спать, дитя. Нас, эстетов, нигде не понимают. Давай, у тебя еще целые сутки. Если что – ты помнишь, где я. Спокойной… – он смотрит на часы, – спокойного утра.
Женька уходит, а я отправляюсь к себе в купе, на ощупь расстилаю по-стель, на ощупь переодеваюсь и залезаю на верхнюю полку. Под ритмич-ное покачивание и перестук колес я засыпаю быстро и сплю спокойно, ус-певая напоследок подумать о том, о чем рассуждали Женька с Артефактом. Любой человек живет так и для того, чтобы быть счастливым.
Счастье? Это понятно. Счастье – это когда уже не нужно бояться, что тебя могут раскрыть. Вот и сейчас – счастье.
Какое-то, Витек, дурацкое у тебя счастье.
* * *
Послеобеденный Волжанск встречает нас легким морозцем, и щеки лег-ко пощипывает, словно город, недовольный нашим долгим отсутствием, журит блудных детей. Стоя на перроне, я умиленно оглядываюсь – огром-ные тополя, тянущие ветви к низкому безоблачному небу, длинное призе-мистое здание вокзала, которое не так давно осовременили, добавили ог-ромные стеклянные двери, полностью переделали фасад, заменили над-пись и табло, насадили елочек, сделали фонтанчик, над чередой скамеек навели блестящие сине-белые навесы, и здание, выскобленное, блестит и, кажется, теперь-то уж приближено к стандарту европейских вокзалов, но отчего-то оно похоже на чопорную даму века восемнадцатого, неожиданно наряженную в полупрозрачный лифчик и мини-юбку. Хорошо, не тронули старые часы, только слегка подчистили, и на их округлые бока по-прежнему опираются копытами два вставших на дыбы откормленных бронзовых коня, которые посылают друг другу свирепые взгляды. Вон широченная лестница с сонными львами, вон вокзальный рынок, откуда тянет дымом и копченой рыбой, и уже видно, как вдалеке ползет трамвай, а вблизи – поезда и люди, люди, люди… И над всем этим истошное свар-ливое карканье огромных вороньих стай, и услышав его, я окончательно осознаю, что я снова в Волжанске – старом городе рыбы, арбузов и ворон.
Выпрыгнувший из вагона Женька с двумя сумками, смотрит на меня одобрительно и как-то умиротворенно, потому что я уже снова выгляжу как надо – на лице больше нет ни тускловатого призрачного макияжа, ни очков, мешковатое синее пальто сменилось длинным строгим черным, у сапог появились каблуки и волосы больше не прилизаны. Так положено – в Волжанске я должна появляться уже Витой. Мне остается только вернуть цвет высветленным бровям и добавить немного яркости пепельным воло-сам, и я окончательно начну соответствовать самой себе. Правда, вначале придется поехать в «Пандору» и сдать отчет, над которым я утром еще не-много поработала.
– Где этот старый пропойца?! – ворчит Женька и крутит головой, вы-сматривая запаздывающего Артефакта. – Или для него нет смысла в том, что поезд прибыл на конечную? Постой здесь, Вита, а я пройду вперед, гляну.
Он уходит, а я, не найдя Артефакта среди толпящихся на перроне, заку-риваю и снова начинаю глазеть по сторонам, притаптывая каблуками гряз-ный снег. Волги с вокзала, конечно же, не видно. Сейчас она спит, зако-ванная в лед, и где-то там, на ней сидят рыбаки, согнувшись, над лунками, которые провертели в ее холодной застывшей спине. Зимняя Волга с дав-них пор нравится мне куда как больше Волги летней, когда она на пике жизни и неспешно катит мимо свои желтоватые мутные воды, из которых кто-то может внимательно наблюдать за тобой…
Задумавшись, я делаю шаг в сторону и налетаю на какого-то прохожего, который зло отталкивает меня назад, да так, что я чуть не падаю прямо в грязь.
– Куда ты прешь, коза?! Глаза потеряла?! – раздается рядом резкий ок-рик. Я взмахиваю руками, пытаясь удержать равновесие на скользком пер-роне, и меня больно хватают за локоть и вздергивают в прежнее устойчи-вое вертикальное положение. Закусив губу, я поворачиваюсь, но вижу уже только спины троих удаляющихся мужчин – всех как на подбор крепких, внушительных и почти одинаково одетых. Все же я точно знаю, кто меня оттолкнул, обругал и удержал – успела заметить боковым зрением. Это че-ловек, который идет с краю, ближе к рельсам, в черных брюках и короткой коричневой дубленке, и я оскорбленно взвизгиваю ему в затылок:
– За собой следи, шифоньер!
Конечно, я сама виновата, но все же то же самое можно было проделать и более вежливо, без грубости, а грубости по отношению к себе в настоя-щей жизни я не терплю. Человек оборачивается и оглядывает меня с пре-зрительным удивлением селекционера, обнаружившего на своей опытной делянке занятный сорняк. У него широкое, типично славянское лицо, а темные волосы гладко зачесаны назад, что придает лицу массивности и надменности… и есть что-то еще… что-то темное, холодное, далекое, словно дно глубочайшего колодца, и от этого как-то не по себе «Шифонь-ер» кривит губы, вытаскивает изо рта сигарету, причем на его указатель-ном пальце взблескивает какой-то странный перстень, сплевывает и гово-рит своим спутникам, указывая на меня сигаретой:
– Видали?! Кусается!
Его спутники, кожаные, и, в отличие от него, подстриженные почти до упора, с готовностью начинают ржать – смехом это нельзя назвать при всем желании, да простят меня лошади. Один из них манит меня толстым указательным пальцем и говорит:
– Кис-кис-кис-кис! У-ти, кися! Шурши сюда, колбаску дам!
Но третий, уже потеряв к стычке всякий интерес, отворачивается и ухо-дит, и отчего-то это злит меня больше всего и в то же время злость разбав-лена некоторым облегчением.
Кто мы, люди, для таких ублюдков? Тени да пыль…
– Витка! – меня дергают за руку, и я оборачиваюсь. Это Женька – уже без сумок, и в его лице какая-то странность, которую я не сразу понимаю. Не выпуская моей руки, он тянет меня за собой, заставляя быстро идти прочь, и когда он снова начинает говорить, я понимаю, что это за стран-ность – легкий испуг смешанный с какой-то ошеломленностью.
– Ты что, с ума сошла?! Невозможно тебя одну оставить! Нашла с кем связаться!
– А что такое? – искренне удивляюсь я и оборачиваюсь. Троица уже ос-тановилась и теперь мрачно возвышается за спиной какого-то серьезного среброволосого человека в дорогом пальто, который разговаривает на пер-роне с толстячком, похожим на огрызок сардельки. Вокруг них толчется еще несколько молодых людей, настойчиво оттирая прохожих в стороны и нервно стреляя глазами по сторонам. – Кто сей надменный мэн?
Женька тоже оборачивается и смотрит на живописную группу, но тут же снова уводит взгляд вперед – так быстро, что это движение почти неза-метно со стороны.
– Так это ж Баскаков!
– Да Баскакова я знаю! – отмахиваюсь недовольно. Вот уж действитель-но – кто в Волжанске не знает Баскакова – даже такой далекий от местной городской жизни человек как я. Баскаков, бывший крупный партработник, ныне один из самых известных, богатых и уважаемых предпринимателей Волжанска, спонсировавший не один городской праздник, не один приезд крупной эстрадной звезды, благотворящий всех и вся, и в ближайшем бу-дущем его прочат в губернаторы области. И волжанский народец, так и не привыкнув, всегда оглядывается, когда по улице с величавой неторопливо-стью катит его роскошный, в великолепном состоянии, черный «роллс-ройс» – «фантом-VI» семьдесят восьмого года. По сути же, Баскаков – личность крайне непрозрачная, я бы сказала, с душком и не одним десят-ком скелетов в шкафу, и кое-кто поговаривает, что нынешний мэр Вол-жанска Сотников, заступивший взамен не так давно скончавшегося Алек-сандрова, – не более чем вывеска, и фактически городом управляет Баска-ков. Этим моя информация о нем исчерпывается… ну, разве еще то, что среди его многочисленных помощников или, грубо говоря, обыкновенных бандитов-шавок, мой старый однодворник Кутузов – в миру Михаил Леба-нидзе, что, впрочем, к делу не относится. – Я говорю о том вот зализанном придурке с перстнем. Ты его случайно не знаешь?
– На которого ты налетела? Это Схимник, – отвечает Женька, уже не оборачиваясь. – И вот что, дитя, в следующий раз если столкнешься с этим мужиком, если даже он тебя под поезд сбросит – то, что от тебя останется, должно тихо вылезти и идти себе домой, не говоря ни слова, поняла?
– Нет, не поняла, дополни. Ну, схимник… давно, кстати? На монаха не похож.
– Да не монах он! – Женька фыркает. Моей руки он не выпускает. – Схимник – это прозвище.
– Хранитель баскаковского тела?
– Ну… он что-то вроде начальника охраны… или заместителя… – Женька останавливается и кладет руки мне на плечи и понижает голос до шепота. – А вообще он – псих и убийца, и если еще ты где-нибудь эту ро-жу завидишь – обходи десятой дорогой и рта не раскрывай. Оскорбит – сдержись, притворись! Представь, что ты на работе.
– Ты-то откуда знаешь? – недоверчиво спрашиваю я. – Он что – по объ-явлениям работает? Бюро добрых услуг? Лично поведал за кружечкой пива о последней халтуре?!
– Смешно, да, смешно… Человек надежный рассказал. И дальше не хи-хикай, дитя, правда это. Мало кто знает об этом, но правда. Может он и на подозрении где, только вряд ли, да и дальше этого дело не пойдет. Баска-ковского человека никто сажать не будет, пока Баскаков сам того не захо-чет.
– Боже мой, Женюра, да ты и вправду испугался! – изумляюсь я. – Да ладно, ладно, больше такого не повторится, обещаю. Просто подобные от-морозки уже достали! Перестань, ничего он мне не сделает – что ж он, со-всем дурак – за такую бытовуху цепляться, коли по серьезному работает?
Я тепло улыбаюсь, тронутая Женькиной заботой – испугался-то он за меня, а это, конечно, приятно. Я протягиваю руку и глажу его по щеке и он, слегка прищурившись, трется о ладонь, словно старый ленивый кот. Щека у него колючая.
– Не надо, – смеется он, – не надо выставлять перед старым лисом его же собственные ловушки, это, в конце концов, нечестно. Господи, посмот-ришь – такое милое, очаровательное дите… Ладно, забыли про монаха – едем к нашим, бросим взгляд на этих гнусных индивидуумов!
В знак согласия я целую его в нос и мы в обнимку идем туда, где ждет нас с сумками мрачный, вновь совершенно самодостаточный и слегка за-индевевший Артефакт. На ходу я, не выдержав, оборачиваюсь – один раз. Баскаков со своей свитой стоит на том же месте, и Схимник так же невоз-мутимо возвышается за его спиной, но отсюда мне уже не видно, куда он смотрит. Я вспоминаю странное неуютное ощущение темного холода, на-крывшее меня на секунду. Убийца? Возможно. Если уж по теории Ломбро-зо1, так на все двести процентов. Может, над этим и стоило бы задуматься, но вскоре происшествие превращается всего лишь в незначительный во-кзальный эпизод, который на подъезде к «Пандоре» и вовсе исчезает где-то в памяти, заслоненный более важными вещами.
«Пандора» существует в Волжанске на вполне официальных правах и даже на вывеске ее честно написано: Пандора. Это небольшой магазинчик офисной техники, каких в Волжанске пруд пруди, – обычный стандартный магазинчик. «Пандора» уютно устроилась на первом этаже длинного серо-го дома по улице Савушкина, усаженной гигантскими, как и во всем Вол-жанске, тополями, и соседствует с медучилищем и магазином «Мелодия». Место неплохое, и «Пандора» нередко имеет прибыль не только с нашей шпионской деятельности. Единственное, что мне не нравится в ее распо-ложении, так это близость Коммунистической набережной, где я когда-то жила. Слава богу, в «Пандоре» я бываю не так уж часто.
Отпустив машину, мы неторопливо идем к крыльцу магазина. Всем, кто хочет попасть в «Пандору», вначале приходится подняться по пяти сту-пенькам узкой и очень крутой лестницы со слегка пошатывающимися пе-рилами и юркнуть в дверной проем. Летом дверь открыта настежь, но в это время года ее придется открывать самому, и тогда приветливо звякнет подвешенное к потолку сооружение из колокольчиков и латунных дельфи-нов. Войдя, посетители оказываются в узком коридоре – белые блестящие стены заплетены искусственными лианами, среди которых примостились несколько китайских шелковых картин. Пройдя по коридору, посетители поворачивают направо и оказываются в большом помещении, где стоят столы, несколько компьютеров, витрины с комплектующими, сопутст-вующими товарами и мобильными телефонами, образцы офисной мебели – в общем, все, что обычно можно увидеть в подобных магазинчиках. Орг-техническую обстановку оживляют три пальмы трахикарпус в красивых кадках и большой аквариум, в котором среди пушистой зелени и компрес-сорных пузырьков с величественным и надменным видом плавают любим-цы и гордость пандорийцев – голубые дискусы. Ну и конечно, помимо все-го этого, в магазине присутствует оседлый персонал «Пандоры», а также те, кто сейчас не в командировке и зашел поболтать или по делу.
Женька останавливается в дверном проеме так резко, что я стукаюсь носом о его спину, ставит сумку на пол и кричит, потрясая над головой сцепленными руками:
– Хэй, пацаки!!! Всем встать и отдать честь! Почему не в намордниках?! Корнет, шампанского!!!
– Босс приехал! – вопит Максим Пашков по прозвищу Мэд-Мэкс, то есть «Безумный Макс», и выскакивает из-за компьютера. Он и еще не-сколько человек – из старой гвардии тех времен, когда «Пандора» была су-веренной, и Женьку они по-прежнему воспринимают как босса, а Эн-Вэ в качестве начальника не признают даже как гипотезу, что, разумеется, не улучшает их отношений.
В течение следующих десяти минут нас обнимают, трясут, расспраши-вают и всячески приветствуют, и в «Пандоре» царят визг, смех и возбуж-денные радостные голоса, словно в школе первого сентября перед линей-кой. Только двое человек остаются сидеть на своих местах. Это Николай Иванович Мачук, которому уже за сорок и поэтому он считает ниже своего достоинства принимать участие в подобных телячьих играх, но видеть он нас рад, и это заметно по его улыбке. Второй же, молодой и рыжий, сидит спиной и даже не думает поворачиваться. Нас с Женькой он терпеть не может. Он работает в «Пандоре» уже около года, и никто толком и не пом-нит, что его имя Олег Фомин, – с легкой руки Женьки, отличающегося редкой сердечностью и тактом, все зовут его Гришка Котошихин1, хотя от силы половина толком знает, кто это такой был – просто понравилось про-звище. Объяснить же его несложно – до своего прихода в «Пандору» Гришка, простите, Олег сменил не один десяток фирм, где не столько ра-ботал, сколько отчаянно стучал на всех и вся всем и вся, и из последней вышел с нелестным прозвищем «Ополосок», какое мы, люди интеллигент-ные, принять не могли. Не один раз Женька пытался от него избавиться, но это невозможно – Фомин – племянник Эн-Вэ.
Когда приветственные крики стихают, помада с моих губ исчезает и не-равномерно распределяется по лицам встречающих, и пандорийцы осты-вают до такой степени, что с ними уже можно нормально общаться, Жень-ка плюхается на стул и говорит, отдуваясь:
– Все, ребята, тихо, тихо, устали мы до черта! Все завтра, завтра – рес-торан завтра, а сейчас нужно делом заняться – я из машины Эн-Вэ уже по-звонил – сейчас прилетит, старый филин. Витек, выдай-ка работку Султа-ну.
Я послушно отдаю пачку дискет черноволосому красавцу, который мгновенно подъезжает ко мне на своем вертящемся полукресле.
– На, дарю безвозмездно – черная база, белая база и прочие глупости.
– Сейчас открою, – сообщает Иван Заир-Бек, отталкивается ногой от стола Мачука и уезжает обратно. Ваньке двадцать лет, и во всем, что каса-ется компьютеров, он бог. Во всем, что касается женщин, тоже – у него никогда не бывает меньше пятнадцати любовниц одновременно, и уже не раз на арене маленькой «Пандоры» разыгрывались такие любовные бои, что страсти Антония и Клеопатры показались бы в сравнении просто лепе-том двух малышей в песочнице. Оскорбленные мужья пытаются изловить его постоянно, ибо Иван каждую красивую женщину в объятиях другого воспринимает как личное для себя оскорбление и по мере сил ситуацию исправляет. Иногда это сильно мешает его работе, и Женька уже не раз грозился сделать из Султана евнуха и отправить в подпевку Покровского собора.
– А как наши малютки? – спрашиваю я, подхожу к аквариуму и сажусь рядом, и волнистое голубое с нежно-кофейным блюдце подплывает вплот-ную к стеклу и внимательно смотрит на меня большим выразительным глазом, чуть пошевеливая перистыми брюшными плавниками. Я легко стучу ногтем по стеклу, и подплывает второй дискус, и оба они надменно разглядывают меня, словно потревоженная королевская чета. – Как вы тут без меня жили? Эти лентяи вовремя вас кормили? А яичко они вам кроши-ли? А говядинку? Не заморозили они вас тут?
– Заворковала! – насмешливо говорит Аня, подходя с другой стороны аквариума и наклоняясь, так что я вижу ее смуглое лицо сквозь воду, стек-ло и водоросли. – Что, забыла, как с ними здесь все носятся? Сами недое-дать будем, а они свое получат. Соскучилась? Вот и покорми, а то они ве-чером еще не ели. В холодильнике трубочник, а в кладовой дафния в бан-ке. Только дафний им Вовка утром давал.
– Тогда лучше трубочника, – говорю я и внимательно разглядываю дно аквариума. – Как лимнофила разрослась… да и чистить пора уже.
– Я уже звонил в зоомагазин – завтра придут, – ворчит Вовка оскорблен-но и хлопает пробкой от шампанского. – Явилась… думаешь, без тебя тут вообще жизнь останавливается? Давайте, девчонки, идите сюда, что вы прилипли к своим лещам?! Чем они вам так нравятся?
– Тем, что не просят взаймы, – мгновенно отвечаю я, заговорщически улыбаясь Вовке. Каждый раз он не устает демонстрировать свое презрение к нам, доморощенным ихтиологам, хотя сам больше всех обожает диску-сов и даже разговаривает с ними, когда думает, что его никто не видит. – Султаша, друг мой, бог сети и повелитель жалких юзеров, скажи, была ли мне почта?
– Да, пару раз, по-моему, послали тебя, так что иди вон к той машине, сверни Иваныча и залезь в свою папку – я все там аккуратненько сложил, – отвечает Султан, возясь с полученной информацией. – Слышь, Витек, а что, в этот раз с тобой много симпатичных девчонок работало?
– Да штук двадцать примерно, – отвечаю я, усаживаясь за компьютер, и у Султана вырывается горестный вздох.
– Эх, почему меня никуда не посылают?! Как мне уже местные надоели. Евгений Саныч, – кричит он Женьке, расставляющему на столе стаканы, – когда уже меня в командировку отправят? В Иваново пошлите!
– Мал еще, – сурово ответствует Женька и уже пододвигает один из ста-канов под бутылку, которую наклоняет Вовка, но тут же придерживает бу-тылку и говорит не своим, чужим и жестким голосом: – Все, убирай в хо-лодильник, Вован, потом выпьем. Видишь, главный эцелоп приехал… на пепелаце пятой серии. Вот так-так… а мы даже не в мундирах.
Я вытягиваю шею и смотрю в окно. Перед крыльцом «Пандоры» оста-новилась темно-синяя «БМВ», и Эн-Вэ, закрыв дверцу, как раз идет к ле-стнице. Мысленно пожелав ему свалиться с нее и сломать себе шею, я сно-ва перевожу взгляд на монитор, продолжая читать письмо от подружки из Екатеринбурга, владелицы крутого диско-бара. Через несколько секунд от входной двери доносится нежный мелодичный звон, а еще через несколько секунд Эн-Вэ останавливается посреди комнаты, хмыкает, потом усажива-ется на стул, с которого вскакивает Котошихин.
На самом деле, никакой он, конечно, не Эн-Вэ, а Гунько Николай Сер-геевич. «Эн-Вэ» он прозван нами за неистовую любовь к гоголевским про-изведениям, которые цитирует кстати и некстати, потому и прозван не-брежно, инициалами, а не фамилией великого русского писателя. Эн-Вэ невысок и сдобен, он носит обувь с толстенной подошвой и высокими каб-луками, чтобы увеличивать рост, длинное расклешенное пальто, сшитое на заказ, и гоголевскую прическу, правда длинные гладкие волосы обрамляют совсем не гоголевскую лысину на макушке. Поэтому лысину Эн-Вэ тща-тельно закрывает волосяной нашлепкой, думая, что об этом никто не знает. Все население «Пандоры» давным-давно поняло, как использовать увлече-ние Эн-Вэ для своих нужд и, выбрав время, вызубрило несколько цитат – даже Вовка Рябинин, прозванный Черным Санитаром за постоянные жи-вописные рассказы о своей трехлетней работе в морге, Вовка, которого за-ставить читать русскую классику можно было только под пытками, – и тот пропотел над книжкой неделю и научился-таки оперировать нужными фразами. Теперь, если обстановка накаляется, пандорийцы начинают ловко перебрасываться цитатами, словно опытные теннисисты мячиком, при этом периодически «ошибочно» обращаясь к Эн-Вэ не «Николай Сергее-вич», а «Николай Васильевич» – и Эн-Вэ тает, как стеариновая свечка.
Эн-Вэ кладет на стол, небрежно смахнув с него на пол какие-то бумаги, красивый черный дипломатик и говорит:
– Ну, здравствуйте. Рад видеть вас живыми и здоровыми. Только опо-здали на два дня. Что ж такое? Али всхрапнули порядком?
– Раньше нельзя было, – отвечаю я, неохотно отрываясь от письма. – Никак нельзя.
– Вы, Кудрявцева, за всех не отвечайте – пусть каждый сам скажет, в чем дело. А то от вас только кураж и больше ничего, никакой работы.
– Неправда! – возмущенно отзываюсь я, поворачиваюсь и болтаю в воз-духе ногами, слегка приподняв длинную юбку. – Я работала, как каторж-ная. Поглядите на белые ноги мои: они много ходили, не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили…
– Все время употребляли… на… пользу государственную, – бурчит Ар-тефакт откуда-то из угла, и все смотрят на Эн-Вэ безмятежно, и постепен-но на его лице появляется некая эпилептическая гримаса – он улыбается.
– Ладно, Кудрявцева, давайте займемся делом.
Никогда и никого из нас, даже племянника, Эн-Вэ не называет по имени – только официально по фамилии, и свои визиты он любит превращать в нечто среднее между пионерской линейкой и производственной летучкой. Я, Женька и Макс всегда ведем себя во время этих визитов как хулигани-стые пятиклассники. Эн-Вэ редко делает нам замечания, но постоянно смотрит на нас с тоской искусной кружевницы, вынужденной вязать соба-чьи коврики. Верно, наша троица представляется ему компанией каких-то злобных гномов.
Сейчас ему на стол складываются бумаги, кассеты, дискеты и прочее, что мы привезли с собой. Эн-Вэ внимательно все оглядывает, просматри-вает мои бумаги, отмечая:
– Небрежно составлено, неаккуратно. Конечно, я понимаю – жизнь те-чет в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет… но ра-ботать следует качественно.
– Так суть же в содержании, а не в виньетках. Тем более все равно пе-репечатают, – отзываюсь я, отворачиваясь и снова занимаясь недочитан-ным письмом. – А вообще, Николай Васильевич… ох, простите, Сергее-вич, хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь, – не могу: темно, темно.
– Э-э, – бурчит Эн-Вэ уже почти добродушно, – конечно, работы мно-го… да и… привыкши жить в свете и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры…
– Вот-вот, трактиры, мрак невежества, – подает голос Женька и мрачно мне подмигивает, потом отворачивается к окну. Эн-Вэ внимательно смот-рит на него и начинает складывать добычу в дипломатик.
– Все это сейчас же проработают, а завтра к вечеру, Одинцов, заедешь за деньгами. А пока… вот вам, пара целковиков на чай, – он кладет на стол небольшой конверт. Женька встает, неторопливо подходит, сгребает кон-верт и подбрасывает его на ладони, потом скрещивает руки на груди и не-сколько раз мелко кланяется.
– Покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья! бед-ный человек, помогли ему.
– Э-э, так, хорошо, – рассеянно говорит Эн-Вэ, доставая из дипломата прозрачную папку, – далее… так… Есть два заказа – Воронеж и Омск.
Женька перестает паясничать, берет бумаги и усаживается на край офисного стола в форме нотного знака. Пользуясь перерывом я дочитываю письмо и собираюсь открыть следующее, обозначенное одной лишь бук-вой «В». Интересно, от кого это?
– Не знаю, не знаю, – говорит в этот момент Женька, слезает со стола и подходит к своему компьютеру, – в Воронеже все просто, тут я сейчас по-смотрю, кто не на выезде, а вот в Омск девчонку надо посылать, а девчо-нок у нас мало… и девчонка нужна такая… – он неопределенно крутит в воздухе пальцами и задумчиво смотрит на Аньку, и та улыбается и томно выгибается в его сторону, выдвигая вперед грудь, и ее язык медленно про-езжает по верхней губе цвета «Горячий шоколад», и у Эн-Вэ, наблюдаю-щего за ней, начинают мелко подрагивать пальцы.
– Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку… и все остальное… – бормочет он и кивает. – Хо-роша, хороша, она всегда хорошо работает, умница, – он подчмокивает Аньке, – сладкая ты наша.
Анька ухмыляется, потом садится на стул, скромно прикрывая юбкой свои великолепные ноги. Ее стиль работы, что называется, «постельная разведка», и в «Пандоре» к этому относятся только лишь как к хорошему профессиональному навыку – не более того – никто из пандорийцев нико-гда не делает Аньке, как и другим девушкам, работавшим так же, каких-либо грязных намеков и не отпускает соленых шуточек – у нас это просто не принято. Каждый работает так, как считает нужным, а других это со-вершенно не касается. Здесь, в Волжанске, Анна Матвеева – благопри-стойная молодая женщина, у нее есть сын, которому четыре года, и муж, считающий, что она и вправду работает в процветающем компьютерном магазине и сетующий по поводу частых деловых поездок жены.
– Я могу поехать, – говорит она, но Женька, посвященнодействовав над компьютером, качает головой.
– Нельзя, ты же недавно в Омске работала. Ушла хорошо, но лучше не рисковать. Сейчас поищем кого-нибудь…
– Зачем, вот же Кудрявцева здесь и уже свободна. Пусть она и едет, – го-ворит Эн-Вэ. Женька поворачивается и удивленно смотрит на него.
– Во-первых, Вита только что приехала. А во-вторых, она у нас по дру-гому профилю.
– Так пусть переквалифицируется! – отрезает Эн-Вэ и аккуратно при-глаживает волосы. – Пора уже, не маленькая! Ты же не думаешь, Кудряв-цева, что тебе денежки, как вареники в рот к Пацюку, будут сами прыгать, а ты на себя только принимать будешь труд жевать и проглатывать?
– У Витки просто другой стиль работы, – добродушно говорит Анька и закидывает ногу на ногу. – Я, например, не смогу, как она, изобразить хри-стианскую девственницу на римской арене.
– Я думаю, что не в этом дело, а просто он ее для себя придерживает! – говорит Эн-Вэ и тычет ручкой в сторону Женьки. – А я хочу, чтоб все ра-ботали! В полную силу! И деревню здесь устраивать не позволю… оно, конечно, на деревне лучше… заботности меньше – возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Просто тебе это, – ручка снова указывает на Женьку, – не нравится.
– А тебе понравится, если твою жену будут трахать в интересах полной выработки? – спрашивает Женька тоном обывателя, делающего замечание на тему погоды. – И даже не в этом дело – у нас каждый работает так, как считает нужным и там, куда я направлю. Вы, Николай Сергеевич, прекрас-но помните мои условия и не только вы, кстати, – он ухмыляется и возво-дит глаза к потолку. Эн-Вэ багровеет и приподнимается со стула.
– Ты, Одинцов, не борзей, – тихо говорит он, резко позабыв про пре-красный гоголевский язык. – Ты не борзей, сука!
– Кто борзеет?! – восклицает Женька обиженно и его физиономия все так же безмятежна. – Я борзею?! Да ни в коем разе! Я и не умею! Я всегда тише крана, ниже плинтуса! Макс, быстро ответь: разве я могу борзеть?!
– Что вы, босс, – с готовностью отзывается Максим, – да вы тихи аки овечка.
– Спасибо, с козочкой не сравнил. Ну, вот, видите? Пойду, поищу свой нимб в нижнем ящичке. Видите, как вы ошиблись? Но вы этого и не гово-рили, верно? Вы ведь не это говорили? Наверное, вы только сказали «Э!»
– Нет, это я сказал: «э!», – перебивает его Максим. Женька пожимает плечами:
– А может и я сказал: «э!» В общем, «э!» – сказали мы с Петром Ивано-вичем. Что же до унтер-офицерской вдовы, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои. Завтра я сообщу вам, как и кем будут выполняться заказы. А сейчас, Николай Васильевич, черт, простите, Сергеевич – все время путаю – вы уж не обессудьте, мы как бы несколько устали, и, если не возражаете, то… – Женька делает реве-ранс, и Эн-Вэ, только что озадаченно скашивавший глаза то на него, то на Макса, снова осторожно трогает ладонью свою волосяную нашлепку, за-стегивает пальто и хмуро говорит:
– Ладно уж… отдыхайте. Только… смотри, Одинцов, не по чину власть берешь! Смотри, объешься – поплохеет.
– Чем прогневили? – неожиданно дрожащим, цепляющим за душу голо-сом юродивого вскрикивает за спиной Эн-Вэ незаметно прокравшийся ту-да позабытый Вовка, и Эн-Вэ подпрыгивает на месте. – Разве держали мы… руку поганого татарина… разве соглашались в чем-либо с тур… с турчином, разве изменили тебе делом или помышлением?!
– Ох, лукавый народ! – Эн-Вэ обреченно машет рукой, подхватывает дипломат и величественно следует к выходу. – Поглядишь, так у вас, Одинцов, не серьезная фирма, а зоопарк какой-то! Не забудьте – завтра я вас жду!
Гордо выпрямив спину, он скрывается за углом.
– Прощай, Ганна! – зычно кричит Женька, хотя до нас еще не долетел тонкий перезвон, означавший, что открыли входную дверь, и Эн-Вэ, нако-нец-то, покинул «Пандору». – Поцелуй, душенька, своего барина! Уж не знаешь, кому шапку снимать! Эх, прощай, прежняя моя девичья жизнь, прощай! Сергеич, с поцелуем умираю!
Последние его слова тонут в оглушительном хохоте. Не смеюсь только я, потому что растерянно смотрю на только что открытое мною письмо. Я ничего не понимаю. Мои глаза прикованы к заголовку, которого не может существовать.
«Здравствуй, милый Витязь. Шлет тебе пламенный привет Наина».
Я тру лоб, потом оглядываюсь – украдкой, словно меня могут застиг-нуть за каким-то непристойным занятием. Но никто не обращает на меня внимания, и я снова смотрю на экран, не в силах заставить себя продви-нуться дальше заголовка.
Здравствуй, милый Витязь. Шлет тебе…
И письма-то самого существовать не может, не говоря уже о заголовке, но вот он – смотрит на меня и словно посмеивается. Два имени, которые я уже начала забывать… словно старая фотография, неожиданно выскольз-нувшая из книги.
Витязь. Наина… Ах, витязь, то была Наина!
…нежелательно писать в открытую, да и все, кто сейчас через Ин-тернет переписываются, придумывают себе какие-то прозвища. Что скажешь насчет пушкинской тематики? Как тебе Витязь и Наина. По-моему здорово подходят под имена – я Вита, ты Надя. Правда?
Да, правда, и знали об этом только две милые девочки – Вита Кудряв-цева и Надя Щербакова. Витязь и Наина. Только вот Наина не может пи-сать мне писем, никак не может, потому что погибла летом прошлого года далеко отсюда, в другой стране, в результате дурацкого дорожного проис-шествия, о котором я толком так ничего и не знаю.
Я нащупываю сумку и тяну ее к себе, краем уха слыша, как Максим го-ворит:
– Это было круто, босс, круто, но как мне уже надоело заниматься этим гоголевским угождением. Ну уже ж невозможно, у меня даже голова забо-лела!
– Радуйся, что не цитируешь Фолкнера1, – замечает Женька, потом чем-то шуршит и говорит: – О, господи, спасибо за крошки с вашего стола! Ар-тефакт, друже, поди сюда – я дам тебе самую бессмысленную вещь на све-те. Или тебе уже совсем не нужны деньги?
Здравствуй, милый Витязь.
Я закуриваю, и тотчас Вовка и Макс негодующе кричат:
– Витка, здесь не курят! Курилка на улице!
– Да пошли вы! – отвечаю я рассеянно и склоняюсь к монитору.
«Простите пожалуйста, что я так начала…»
– Витка, ты что это? – удивленно спрашивает Женька. – Что у тебя с ли-цом? Будто с того света письмо получила.
– Да… можно и так сказать, – бормочу я и снова принимаюсь за письмо.
Здравствуй, милый Витязь.
Шлет тебе пламенный привет Наина.
Простите, пожалуйста, что я так начала, но мне нужно, чтобы вы сразу про-читали мое письмо, а не откладывали на потом. Это очень срочно. Сразу хочу вас успокоить – это не Надя проболталась. Просто она, можно сказать, заве-щала мне свою записную книжку, где я нашла ваше письмо, а также адрес. А в ее записях есть такое: «Мой милый друг Витязь, пожалуй, может узнать все что угодно».
Вряд ли вы меня знаете, хотя, может быть, Надя и упоминала обо мне. Ме-ня зовут Наташа, мы вместе росли и вместе учились. Она была моей лучшей подругой. В той истории, из-за которой она погибла, мы участвовали вместе.
Витязь, мне очень нужна ваша помощь. Больше мне не к кому обратиться, я не знаю никого, кто мог бы мне как-то помочь. Я и вас-то не знаю, и, может быть, это и к лучшему – все, кого я хорошо знала и кому полностью доверяла, меня обманули. Разумеется, я не прошу о бесплатной помощи, и мы могли бы договориться об оплате – о хорошей оплате. Ни о каком криминале речь идти не будет. Но для того, чтобы все обсудить, мне нужно встретиться с вам лично. Я могу приехать к вам в Питер, хотя было бы намного лучше, если бы вы прие-хали ко мне в Волгоград.
Итак, если мое письмо вас заинтересовало и если помимо заработка вы бы хотели узнать, что в действительности случилось с моей и вашей подругой, пришлите мне ответ на указанный адрес. Я буду ждать до десятого февраля. Очень вас прошу, не отказывайтесь. Если вы решитесь сами ехать в Волго-град, я оплачу вам дорогу и туда, и обратно.
Еще раз простите, если я ввергла вас в шоковое состояние.
Н.
P.S. Пожалуйста, никому ничего не говорите.
Прочитав письмо до конца, я тут же читаю его заново, чтобы ничего не пропустить. Дурацкое письмо. Странное. Даже, если хотите, жутковатое. Самым мудрым было бы, пожалуй, тут же стереть его и забыть. Но отчего-то было чертовски жалко написавшего его. Письмо, помимо всего прочего, было еще и каким-то несчастным, неумелым, хотя наверняка эта неизвест-ная мне Наташа долго и серьезно продумывала каждое слово, и сквозь на-тянутый деловой тон отчаяние просвечивало так же явно, как чей-то пе-чальный силуэт сквозь тонкую оконную занавеску. И еще слова…
…что в действительности случилось с моей и вашей подругой…
Это еще что значит? Ведь я сама разговаривала по телефону с Надины-ми родителями. Надю случайно сбила машина, когда она выбежала на до-рогу, и никакой уголовщиной здесь и не пахло – все было чисто и ясно. А теперь… вот уж не было печали!
– Не забудь за собой убрать! – сурово говорит над моим ухом Николай Иванович. Я опускаю глаза и вижу, что засыпала и себя и весь стол пеп-лом. Пандорийцы, которые в сторонке уламывают Женьку пойти в ресто-ран сегодня, а не завтра, поглядывают на меня удивленно.
– Число, – говорю я, свернув письмо и вскакивая, – какое у нас сегодня число?
– Дитя мое, неужели старый, загибающийся от перхоти Эн-Вэ так тебя запугал? – участливо спрашивает Женька. – Сегодня восьмое февраля. Не напомнить, в каком году ты родилась? Слушай, эпикурейцы навалились – требуют, чтобы ресторан был сегодня. Мы устали или мы пойдем?
– Смотря в какой, – отзываюсь я, сметая пепел. – Если опять в «Красную башню», то я отказываюсь сразу. В прошлый раз ты вместе с Максом дос-тал бедных китайцев, требуя прислать девиц с лютнями, флейтами и хуци-нями, дабы они исполнили мелодию «Дикий гусь опустился на отмель», и спрашивая, почему стены не изукрашены танцующими фениксами и изви-вающимися драконами и где занавеси из пятнистого бамбука с реки Сян…
– Просто не люблю псевдокитайских ресторанов, – невозмутимо отзыва-ется Женька, садится возле аквариума с дискусами и постукивает ногтем по стеклу. – А змею они все-таки приготовили ничего так, – он снова сту-чит ногтем по стеклу. – Эй, лещи, в ресторан пошли!
– Не «Башня», – успокаивает меня Вовка, – новый очередной открыли – «Цезарь».
Я записываю адрес, который указала Н., вырезаю письмо и убираю его на свою дискету, а адрес преподношу Султану и, польстив его самолюбию, уговариваю поскорей адрес этот пробить.
– Дома сделаю, – кивает Ванька и прячет бумажку в портмоне. – Евгений Саныч, хорош рыбок пугать, пойдемте уже. Мы стол заказали. Божествен-ный вечер. Погуляем скромненько, чуть-чуть.
– Надоели, демоны! – Женька бросает в рот пластинку клубничной жвачки и потягивается, хрустя суставами, потом встает и берет папку, ос-тавленную любителем гоголевской прозы. – Давай, Иваныч, закрывай!
Перед рестораном мы заезжаем домой, чтобы оставить вещи. Живем мы в личных Женькиных двухкомнатных апартаментах в длинной пятиэтажке по Московской улице. Неподалеку ежедневно шумит Ханский базар – со-седство не слишком приятное, но удобное, – а через несколько домов рас-положена старая школа милиции. Девятиэтажка окружена все теми же не-изменными огромными тополями, и иногда мне кажется, что раньше на месте Волжанска шумел гигантский доисторический тополиный лес, а ны-нешние тополя – все, что от него осталось. Также дом окружен уродливы-ми сооружениями, похожими на большие квадратные банки из-под шпрот или сардин. Владельцы называют их гаражами. В одной такой консервной банке стоит Женькин темно-синий «мондео» -универсал, и, разумеется, Женька первым делом бежит в гараж и мне затем стоит большого труда вытащить его оттуда.
Ресторанчик с царственным названием оказывается вовсе не таким уж плохим местом, а когда мне среди прочего подают отличные охотничьи колбаски, как положено, горящие синим пламенем, я и вовсе проникаюсь к нему теплыми чувствами. Хоть он и выдержан в тяжеловатом монаршем пурпурном цвете, но оформлен не навязчиво и не крикливо, пожалуй, даже просто, а производит впечатление дорогого, да и является таковым. Все кроме меня едят рыбу – уж что-что, а рыбу в Волжанске готовят превос-ходно даже в самом захудалом заведении, – запивая ее белым крымским вином. Я никогда не ем рыбу и не очень люблю наблюдать, как ее поеда-ют другие, поэтому обычно стараюсь смотреть куда-нибудь в другую сто-рону. Но сегодня меня это мало задевает – странное письмо не выходит у меня из головы, и я почти не поддерживаю разговор, который вначале кру-тится вокруг работы и Эн-Вэ, а потом перескакивает на политическую об-становку в городе. Расправившись с колбасками, я заказываю грибы в сме-тане и бризе1 с гарниром, и Женька начинает смотреть на меня осуждающе и вскоре утаскивает к месту для танцев, где качественно выбивает из меня пыль, заказывая три латины подряд. После третьей нам даже аплодируют – разумеется, не мне, а Женьке, который, как обычно, танцует превосходно, я же со стороны наверняка выгляжу этакой тросточкой, которую переки-дывает из руки в руку умелый танцор.
Вечер проходит превосходно, и под конец все расслабляются, и никто уже не помнит об Эн-Вэ, о работе, и я забываю про письмо, и даже Султан, как обычно приведший откуда-то за наш столик трех незнакомых, посто-янно хихикающих девиц, вызывает не раздражение, а какое-то материн-ское умиление. Кажется, на этом уже и закончится сегодня, но прибыв до-мой, Женька неожиданно произносит странную фразу, которая застает ме-ня врасплох. Я как раз пытаюсь приготовить кофе, когда на кухню величе-ственной походкой подгулявшего монарха заходит Женька, слегка путаясь в полах своего длинного халата, прислоняется к косяку, пару минут на-блюдает за моими манипуляциями, а потом говорит:
– Витка, а почему бы тебе не уйти из «Пандоры»?
Я проливаю часть кофе на плиту (Ах, спасите, тетя с «Кометом»! ) и изумленно смотрю на него.
– Ты что это, Зеня?! Как так уйти?! Куда?!
– Ну так. Вообще уйти. Совсем. Только не говори, что ты никогда об этом не думала. Разве тебе не хочется пожить нормальной, не придуман-ной жизнью, не мотаться туда-сюда, не врать, не втираться в доверие – просто пожить, а?
– А-а, понимаю, ты из-за Эн-Вэ. Ну, что, в первый раз что ли он подоб-ные разговоры заводит?! С тех пор, как он меня в твоем кабинете ухватил любезно за ляжку с возгласом: «А что это у вас, великолепная Солоха?» – а я уронила чашку с кофе ему на интимное место – с тех пор у него на меня зуб. Все равно это одна болтовня и ничем она не закончится, потому что он тебя побаивается.
– Эн-Вэ здесь не при чем, – с досадой говорит Женька. – Просто уйти – вдвоем. Контору я передам Максу или Сереге, который сейчас в Саратове.
– Это чудесно придумано, – задумчиво говорю я, – ну, а дальше что? Пойдешь снова в барах плясать, а я – в школу детишек учить орфогра-фии?! И на что жить будем? Сам знаешь – на честность долго не прожи-вешь.
– Ну, не прямо сейчас, а где-то через годик. Поднаберем денег, у меня есть пара дел на примете, только их еще прорабатывать и прорабатывать… Опять же, машину тебе собирались купить…
– Мне машины не надо, сколько раз повторять! – перебиваю я его, раз-ливая кофе по чашкам и бросая в свою кружок лимона. – Я машин боюсь. Я не смогу ее водить, понимаешь?! Я до сих пор не могу понять, как умуд-рилась сдать на права – мой инструктор, здоровенный дядька, сказал мне после экзамена, что все жутчайшие моменты в его жизни по сравнению с нашей совместной поездкой – просто милая детская сказка.
– Ну, пока на машину все равно денег нет, – задумчиво говорит Женька, прихлебывая кофе, – но все восполняемо и образуемо. Но как только у нас будет достаточно денег… Ну признайся, ты ведь тоже об этом думала!
– Жека, если ты не перестанешь заниматься самокопанием, а также ме-някопанием, я тебя ударю!
– Ха, ха! Она меня ударит! Напугала смертника алиментами! Витек, ты ж пацифист.
– Я пацифист в хорошем смысле этого слова. Ну, хорошо, – я ставлю пустую чашку на стол, – я об этом думала и не раз, но не могу сказать, что-бы мои мысли так четко оформились, как твои.
– Ну, тогда ничего, – Женька довольно кивает, допивает кофе, подходит ко мне, обнимает и, заводя мои руки за спину, слегка раскачивает меня из стороны в сторону. – К тому времени, как деньги появятся, и мысли офор-мятся, а также, может, ты, наконец избавишься от своего детского закидо-на насчет брака.
– Ты опять за свое? Ты очень странный человек, Жека. Ну разве плохо нам живется непроштампованным?
– Иногда хочется побыть абсолютно честным мужчиной, – он смеется. – А ты думай, думай. Еще есть время, пока я не честен.
Я смотрю на него недовольно – я не люблю, когда Женька заводит раз-говор о том, чтобы облагородить наши отношения, а в последнее время он делает это довольно часто. И зачем ему это нужно? Страстной любви меж-ду нами нет, мы больше друзья и вместе нам просто хорошо и удобно. Может это и хорошо и долговечно, гораздо долговечней, чем когда все го-рит синим пламенем, и по мне – пусть все так и остается. Дело в том, что я ненавижу брак – ненавижу это понятие, ненавижу штампы в паспорте, не-навижу обручальные кольца, и иногда, когда мне в рабочих целях прихо-дится носить обручалку, то на безымянном пальце даже появляется аллер-гическая полоса, и дело тут не в качестве кольца – это психологическая ал-лергия. Такая вещь как брак испоганила мое детство.
Когда мне было пять лет, мои родители развелись, но разъезжаться не стали. Квартира была хорошая, трехкомнатная, на набережной, отец, как и большая часть мужского населения Волжанска, заядлый рыбак, не желал отказываться от такого удобного места жительства и от общества живуще-го в соседнем доме родного брата, мать не желала лишаться подруг и близ-кой дороги на работу, и обоим было жаль разменивать такую чудесную квартиру. Так что оба остались в ней, заняв по комнате, третья стала чем-то вроде склада, а я жила то у одного родителя, то у другого.
Спустя несколько месяцев отец привел в свою комнату подругу Елену, где они, по быстрому расписавшись, стали жить-поживать вместе. Мать не отстала от него – новый муж – крепкий, загорелый дядя Вася появился в ее комнате двумя неделями позже. Я по-прежнему жила то у одного роди-теля, то у другого, и дядя Вася давал мне подзатыльники и деньги, а Елена пыталась выучить испанскому языку.
Когда мне исполнилось шесть с половиной, дядя Вася изменил маме с Еленой, дома состоялся большой скандал, и вскоре все снова развелись. Но остались в квартире. Мое семилетие ознаменовалось появлением шофера Егора Сергеевича и язвительной худющей тети Вики. Тетя Вика стала но-вой женой папы, Егор Сергеевич разделил семейный очаг с Еленой. Тетя Вика учила меня хорошим манерам, Егор Сергеевич пытался сделать из меня помощника в своем гараже.
Эти семейные корабли благополучно сели на мель уже через пару меся-цев. Все начали изменять друг другу с друг другом сплошь и рядом. Мама еще раз вышла замуж за папу, но их брак длился от силы неделю. Разво-диться они уже не стали, и, в конце концов, все плюнули на официальные отношения и стали жить одной большой счастливой семьей, в которой для меня уже не было места. Никто уже меня ничему не учил, обо мне вспоми-нали раз или два в неделю, и тогда вся дружная семья скопом набрасыва-лась на меня с изъявлениями любви. Через двадцать минут она снова обо мне забывала. По сути дела растил меня двоюродный брат Венька, а после его нелепой и страшной смерти моим воспитанием занялся его друг Лень-ка Максимов, и это человек, которого я уважаю и люблю больше всех на свете – он не только вырастил меня, но и спас мне жизнь. Ленька был мне и братом, и отцом, и матерью одновременно, и как жаль, что теперь он жи-вет так далеко от меня – это плохо и несправедливо – ей-ей несправедливо.
Все это было давно, но до сих пор при словах «брак» и «семья» меня начинает нервно колотить, и я сразу же вспоминаю, что творилось в нашей квартире. Сейчас-то «семьи» уже нет – отец давно уехал из Волжанска, те-тя Вика снова-таки вышла замуж, переехала и теперь шпыняет народ на местном телевидении в отделе кадров, Егор Сергеевич три года назад, хо-рошенько выпив, разбил машину вместе с самим собой и теперь прописан на пыльном волжанском кладбище, Елена тихо угасает от рака на квартире оженившегося сына, а в нашей квартире остались только мать, дядя Вася и дочь Елены и Егора Сергеевича. Все трое друг друга терпеть не могут, но отчего-то не разъезжаются – привыкли что ли? Я общаюсь с ними редко и только по телефону.
Нет, семья – это не для меня, и, в упор глядя на Женьку, я снова ему это поясняю. Женька смеется, постепенно уходит в сторону от темы, отнимает у меня тряпку, которой я собираюсь было оттереть плиту, и начинает вся-чески приставать, бормоча, что он старый солдат и не знает слов любви, на что я предлагаю ему просто, без лирических отступлений, отправиться в спальню. Что мы тут же и делаем, а поскольку мы идем, что называется, сплетясь в тесных и страстных объятиях и совершенно не смотрим, куда идем, то по дороге два раза налетаем на стену и опрокидываем стул, что, впрочем, не имеет никакого значения.
Много позже, когда Женька давным-давно спит, а светящиеся часы на тумбочке показывают начало четвертого, я, проворочавшись час без сна, обдумываю все и принимаю решение. Я толкаю Женьку, он мычит в ответ и переворачивается на другой бок, уволакивая за собой большое одеяло, и я еле успеваю вцепиться в край и дернуть одеяло обратно на себя.
– Женька, слышишь?! Жека!
– Я! – бормочет Женька в подушку сквозь сон. Я наклоняюсь и гнуса-вым голосом громко говорю ему на ухо:
– То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца…
Женька вздергивается на кровати, словно на него плеснули кипятком, ошалело крутит головой, убеждается, что кроме меня в комнате никого нет, и начинает ныть:
– И ночью при луне нет мне покоя! Витка, ты что, очумела?! Полчетвер-того утра! У меня завтра работы полно…
– Женька, мне придется уехать.
– Ага, давай, – говорит Женька и собирается было снова впасть в сон, но тут же садится и смотрит на меня уже вполне осмысленно. – Уехать?! Ку-да?!
– В Волгоград. Прикроешь меня?
– Что, халтура? Смотри, у нас самодеятельность не поощряют. Это из-за того письма? От кого оно?
– От старого друга. Я съезжу совсем ненадолго. Видишь ли, должок у меня есть, а всем нам нужно платить старые должки, верно?
Женька пожимает плечами и укладывается обратно на подушку, откуда задумчиво на меня смотрит, потом притягивает меня к себе и спрашивает:
– А велик ли должок?
– Да с меня ростом. Я…
Мои слова перебивает пронзительный телефонный звонок. Женька хва-тает трубку, свирепо рычит в нее «Да?», а потом передает мне:
– На, и ночью неймется этому киберпавлину!
Он мгновенно засыпает, а я внимательно слушаю слегка сонный голос Султана, который, после предварительных расшаркиваний сообщает мне, что врученный ему адрес принадлежит одному киевскому «Интернет-кафе». Да-а, не одни мы такие умные. От кого же, интересно, так шифрует-ся эта печальная Наташа со своим некриминальным предложением?
– Спасибо, милый Султаша, ты – лучший!
– А то! – горделиво отвечает Султан. – Ну, давай, спокойного анабиоза. Целую взасос – твой пылесос.
Он отключается, я бросаю трубку на тумбочку и тут же наконец ныряю в сон – мгновенно, словно в мутную воду с горячего парапета, и все, что есть на свете реального, становится уже неважным…