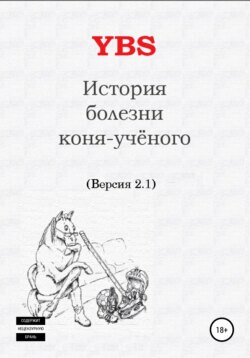Читать книгу История болезни коня-ученого - YBS - Страница 15
Жеребенок
Новые времена
ОглавлениеБуквально на следующий день после первомайского праздника 1960 года газеты и телевидение сообщили о небывалом – зенитные ракетчики сбили американский самолет «Локхид У-2» над Уралом. Пресса заходилась в восторге от успеха – свалили считавшийся неуязвимым американский разведчик на высоте, до которой раньше не дотягивались ни ракеты, ни самолеты-перехватчики ПВО; пилота – Фрэнсиса Гэри Пауэрса – захватили и предали открытому суду[53]. Я целых три недели ходил в школу по Красноармейской мимо выставленной в витрине Дома авиации[54] схемы полета Пауэрса, заканчивавшейся крестом на Урале. Под соусом этой истории отменили уже назначенный ответный визит американского президента Эйзенхауэра в СССР и планировавшееся заключение договора о разоружении. Не знаю, как остальные, но тогда я впервые осознанно воспринял ощущение военной тревоги, которое вообще-то культивировалось постоянно. Весь следующий год это ощущение только нарастало.
А тем временем, в параллель с грозовыми раскатами в мировой политике, в жизни нашей семьи произошло событие, которое изменило ее совершенно. Летом 60-го года меня в очередной и последний раз, правда, лишь на месяц, услали в Киев к деду и бабке, а родители под действием слухов о ширящемся жилищном строительстве решили попробовать выяснить свою судьбу в райжилотделе, где они стояли на очереди с незапамятных времен. Действительно, все газеты и телевидение громогласно возвещали о том, что Советская власть, едрена вошь, обеспокоилась-таки условиями жизни своих неподследственных граждан – в смысле, тех до кого очередь на следствие и его последствия так и не подошла, – и стала строить жилье «числом поболее, ценою подешевле». Мы летом 59-го, едучи купаться в Серебряный Бор, даже сами видели, что на Хорошевке за домами, построенными пленными немцами сразу после войны, выросли кварталы из одинаковых пятиэтажных домов, с торца выглядевших так, будто склеили вместе десять спичечных коробков в два ряда…
Шансов, как сами родители думали, у них было немного – такие же или худшие условия были еще у тысяч семей, к тому же маму только что сняли с учета в тубдиспансере как излечившуюся, и эта льгота нам больше не полагалась. И тут случилось одно из совершенно необязательных событий, которые определяют повороты судьбы. В жилотделе они попали на молодого парня, который почему-то проникся к ним симпатией, сказал, де, давайте посмотрим, что можно сделать, порылся в своих бумагах и воскликнул: – О, такой-то (видно начальник невысокого ранга) от ордера отказался! Вот, берите смотровой, но имейте в виду, что действовать надо быстро!
Надо ли объяснять, что действовали мои родители в ураганном темпе, потому что смотровой ордер обещал двухкомнатную квартиру с жилой площадью в 31 кв.м., кухней, раздельным санузлом (совмещенный тогда еще только становился пугалом для многосемейных новоселов) и даже метровым чуланчиком. И всего-то – на втором этаже (лифты тогда считались архитектурным излишеством)! Это были славные времена, когда проектировщики еще не потеряли совесть окончательно и не соединили пол с потолком, как в известном анекдоте. В квартире был настоящий буковый паркет, деревянные, а не картонные, двери и широкие лестницы, по которым можно было проносить серьезные грузы – что гроб, что пианино. В последующих сериях новостроек все это исчезло.
Когда приехавшие за мной родители сказали, что в старую комнату на Нарышкинскую мы уже не вернемся, я загрустил – и по родному месту, и по соседям, которые были вроде родственников…
Первое время мы в этой квартире друг друга теряли, и чувство локтя ближнего своего, засунутого тебе под дых, сильно ослабело. Правда, возникли трудности из-за удаленности нового места жительства – тогда это называлось 75-м кварталом Верхних Мневников. До любого метро надо было добираться полчаса, и отцу, работавшему на подольском заводе, приходилось тратить по два с половиной – три часа в один конец. Еще и в 20-й троллейбус на нашей остановке, которая тогда называлась «Правление колхоза»,[55] было не сесть. Как-то раз отец, опаздывая на работу, доехал вместе с еще десятком мужиков на подобравшем их «воронке» до Белорусского вокзала, а когда шофер скомандовал высадку, они попрыгали из машины на ходу – там в пробке скорость была маленькая… Фурор, когда из воронка посыпались мужики, некоторые с портфелями, на площади был огромный.
Родители из-за этого чуть не совершили роковую ошибку: попытались лихорадочно поменять отдельную квартиру на комнаты в общей квартире поближе к центру, и только спустя год, когда они распробовали прелесть независимости от посторонних и родили второго сына, прекратили эту самоубийственную деятельность.
Для меня переезд означал не только то, что я больше не буду спать на топчане у выхода из комнаты, и через меня не надо будет перешагивать, чтобы выйти, но и необходимость уйти из любимой 150-й школы, где я всех знал и прекрасно себя чувствовал. Я еще посопротивлялся жизненным обстоятельствам и несколько недель поездил с Хорошевки на Ленинградку, но потом почувствовал, что выматываюсь от этой езды и беготни по часу с лишним в каждую сторону и сдался. Все-таки в 10 лет это оказалось тяжеловато. Тем более, что на меня во все большем объеме ложились всякие обязанности в семье – именно тогда до самого 64-го года я меньше всего видел своего отца, который со своей бригадой наладчиков месяцами сидел на Южно-Уральской ГРЭС[56], запуская один блок за другим.
Согласно советской системе, о трудовых успехах положено было рапортовать к Новому Году, и для нас последние дни календаря превращались в напряженное ожидание – успеет ли папина бригада провести 72-часовое испытание, которое позволяло считать блок введенным в строй, и хватит ли ему потом времени, чтобы долететь до Москвы. Мама, пока работала в ГАМЦ, а потом ее подруги в московских метеобюро отслеживали погоду – я запомнил минимальные параметры, позволявшие садиться тогда в московских аэропортах – высота облачности 100 метров, дальность 1 км… Однажды папа не успел, и мы поздравляли друг друга с Новым Годом по телефону – он позвонил с Челябинского аэродрома.
Год в 100-й школе-восьмилетке пролетел незаметно, потому что я больше проболел ангинами и воспалениями легких, чем проучился. Возможно, сказалось прекращение занятий в бассейне, а может быть, детский организм так отреагировал на улучшение жилищных условий – во всяком случае на изменение обстановки. Мама таскала меня по врачам, зашла речь о необходимости операции, но тут кто-то ей посоветовал показать меня отоларингологу Фельдману – тому самому, чудом уцелевшему в лапах МГБ по делу врачей. Мы пошли к нему на квартиру, и старый доктор, надев налобное зеркало, посмотрел меня и сказал: – Не надо ребенка зря оперировать, отвезите его летом в Евпаторию, пусть мальчик пополощет там горло морской водой, и все пройдет.
С наступлением весны я стал болеть поменьше, а в школу ходить – побольше. Пожалуй, именно к этому году относится мой первый околоспортивно-окололитературный опыт – нам задали сочинение на сакраментальную тему «Как я провел зимние каникулы», и я добросовестно пересказал содержание документального фильма о Римской Олимпиаде, виденного мной в кинотеатре «Новости дня» в начале Твербуля, и заслужил от классной руководительницы восторженный отзыв. Вдохновленный им я в следующем сочинении разразился новогодней сказкой – довольно шаблонной, но все же придуманной полностью самостоятельно и настолько впечатлившей учительницу, что к «пятерке» она добавила два плюса…
Для уравновешивания к себе чересчур почтительного отношения учительницы, я, несмотря на частые отсутствия, успел поучаствовать вместе со всем классом в «хулиганстве» – учительница задержалась и долго не приходила в класс, а несколько ребят носились по коридору и орали. Нашей классной перепало от завучихи младших классов, ведшей параллельный класс и заслужившей у своих детей кличку «Бочка-полицей» за стройность фигуры и доброту, и нам не поздоровилось… Разъяренная взбучкой классная пошла по рядам и влепила в дневники всем погловно двойки по поведению. Я, не чувствуя за собой особой вины и учитывая коллективный характер репрессии, отнесся к ней наплевательски. А вот девочка, которая сидела со мной за одной партой, отличница и председатель совета пионерского отряда с двумя лычками на рукаве, заплакала тихонько и стала спарывать лычки, видимо в знак протеста. Добилась она только того, что классная еще и за это на нее накричала…
До майских праздников оставалось уже немного, когда вдруг на перемене по школе пополз какой-то слушок, что у нас запустили человека на Луну… Ну, такую возможность я своим критическим умом сразу отверг – ага, ни одного запуска человека на спутнике Земли, и сразу – на Луну? А потом слух стал как-то материализоваться и приобретать более отчетливые очертания – вроде полетел майор Гаганов. Опять мой мозг воспротивился: Гаганова – это была фамилия ткачихи из Вышнего Волочка, которой незадолго до того дали «Гертруду» – Героя Соцтруда, и я решил, что это опять у кого-то в голове что-то закоротило…
…Урок все не начинался, учительница опять куда-то исчезла, и мы колобродили в классе, пока не прокашлялась вдруг в коридоре школьная радиотрансляция, и учитель труда проговорил в микрофон, что у нас запущен космический корабль с человеком, фамилию он еще не назвал… В школе началось громкое сумасшествие, и все, с кем я потом говорил на эту тему, сходились на том, что это была невиданная ни до, ни после, эйфория.
Занятия, само собой, фактически были сорваны – никто ничего не мог и не желал слушать, все только обсуждали событие. Мы, как выяснилось, были не одиноки – тысячи людей сорвались тогда с работы и с занятий и против всяческих правил и обыкновений вывалились на стихийную демонстрацию на Манежке – вечером телевидение показывало студентов-медиков, у которых приветственные лозунги были написаны на их белых халатах. Что-то подобное мне почудилось потом во взрыве чувств в ночь 19 мая 2005 года[57]…
Через несколько дней Москва готовилась к встрече первого космонавта, который, как выяснилось, Гагарин, а не Гаганов, хотя пресса не упустила случая обыграть сходство фамилий. Рано утром я шел в школу, исполненный решимости удрать оттуда любой ценой после второго урока, чтобы успеть к телевизору и все увидеть. Подозреваю, что аналогичные планы строили практически все, кто пришел в тот день на занятия. И когда после второго урока я уже напружинился, чтобы в переменку задать стрекача, в класс зашла завуч и сказала: – Дети, идите домой смотреть встречу Юрия Гагарина!
Даже жалко было пропавшего зря запала совершить побег. А через несколько секунд после замечательной речи завуча газоны вокруг школы почернели от сотен школьников, рвущихся вон, на ходу натягивающих пальто, куртки и шапки и мчащихся по домам… Дома у телевизора за импровизированным праздничным столом я к своему удивлению обнаружил группу оперативников ГАМЦ ВВС во главе с собственной мамой, которые смылись с работы с той же целью, что и я. Подозреваю, что в тот день в Москве работали только «Скорая помощь», пожарные и вытрезвители.
Картинка встречи до сих пор перед глазами, как нечто обалденное – чистый, ничем не запятнанный восторг, охвативший буквально всех. Я просто не знаю человека, который бы вспоминал этот день без теплоты в голосе, хотя оснований для всяких неудовольствий жизнью было предостаточно. Но вот – никого не убили, не завоевали, а просто совершили подвиг, которого мы, мальчишки, ждали и были уверены в нашей победе в гонке с американцами, никем не объявленной, но совершенно очевидно существовавшей. Самолет над Внуково в окружении почетного эскорта истребителей, посадка, развязавшийся шнурок у Гагарина на ботинке, рапорт и проезд от аэродрома до Кремля среди толп, беснующихся от радости, сносящих оцепления, прорывающихся с букетами к машине. Взрослые в тот день выпили все, а мама и ее сослуживицы вспомнили, как полтора года назад у них в столовой обедали молодые летчики, которых кто-то назвал «Лайками»[58]…
А в июне меня по мудрому повелению доктора Фельдмана отправили-таки в эту самую Евпаторию. Видимо, специально для этого именно там дислоцировался пионерский лагерь Министерства обороны «Чайка», который в то время считался вторым по уровню в стране после легендарного «Артека». Мама, работавшая в системе МО всего лишь рядовым вольнонаемным оперативником одной из множества служб, каким-то своим особым везением или паранормальными способностями раздобыла мне туда путевку. Да, надо признать, по тем временам лагерь был шикарный, кормили вкусно и обильно, было полно всяких секций и кружков, пляж и море…
Как и во всех других местах, важное место занимал футбол – разыгрывалось первенство лагеря, хотя понятно, что команде 35-го отряда, состоявшей из пятиклассников, нечего было делать против 1-го отряда – там были ребята, перешедшие в 10-й… Даже против 3-го отряда (мальчиковые носили нечетные номера, а девчачьи – четные), где ребята были всего на год моложе, первоотрядовцы имели абсолютное превосходство. Но вот как-то на утренней лагерной линейке начальник лагеря сообщил, что к нам едет детская команда ЦСКА, чтобы сыграть со сборной лагеря. Можете себе представить, как все воспламенились от этого сообщения!
Все, конечно, были уверены, что команда НАСТОЯЩЕЙ спортшколы НАСТОЯЩЕГО ЦСКА несомненно вздует наших, пусть даже они и будут старше… Парни из сборной лагеря все это слышали и тренировались совершенно, как сумасшедшие – просто не уходили с поля лагерного стадиона, между прочим, вполне «взрослого» – с капитальными каменными трибунами и полем с разметкой и воротами с настоящими целыми сетками. В назначенный для матча день лагерь гудел и ходил ходуном, команда лагеря столпилась поблизости от поля, чтобы первыми увидеть соперников, как только их доставят.
Что-то затягивалось прибытие высоких гостей… Наконец, пронесся вой: – Приехали! А вскоре, действительно, в клубах пыли появился зеленый армейский автобусик, только что-то я никого не мог разглядеть в салоне, хотя в детстве у меня было отличное зрение. Дальше началась какая-то фантасмагория – автобус, не тормозя у границы поля, проехал в центральный круг, а потом из дверей полезли на поле какие-то черти, лешие и бабы-яги в дурацких сарафанах, в которых со второго взгляда легко распознались физруки, вожатые и прочая нечисть…
Поняв, как их надули, ребята из сборной от обиды совершенно озверели и, когда началась-таки игра, пошли рубиться с вожатыми всерьез, не стесняясь врезать сопернику по костям со всей силы. Кое-кому из взрослых это сильно не понравилось, и я слышал, как начальник лагеря уговаривал их: – Ребята обиделись! Вы уж потерпите!
В первом тайме со зла и со свежими силами пацаны штуки три наколотили, а после перерыва взрослые, сняв дурацик юбки и засучив штанины, отыгрались, чем закончилось точно не помню, но у меня остался нехорошее послевкусие, тем более что незадолго до того мы тоже попались… Для младших отрядов устроили что-то вроде военной игры – поиски «сладкого дерева» – по каким-то подсказкам. Мы первыми обнаружили под кустами ящик с пряниками, но у нас его конфисковал вожатый соседнего младшего отряда и объяснил, что маленьких нельзя обижать, этот ящик должны были найти они… В общем, мы поняли, что вся эта игра была нечестной с самого начала.
Отдых в пионерлагере МО «Чайка» оставил еще одно сильное воспоминание. Как-то раз один мальчишка из нашего отряда, сын офицера, как и большинство ребят, когда пришлось к слову, вдруг, понизив голос сказал: – А ты знаешь, что мы в 42-м году должны были на Гитлера напасть? Я о таком услышал тогда впервые и, конечно, сказал, что – нет, не знаю, но это было бы здорово, если бы мы первыми успели, и не было бы этой внезапности, из-за которой, как нам тогда объясняли, случилась трагедия первого периода войны. То есть, тогда отголоски этих предвоенных слухов продолжали циркулировать среди офицерства. Я потом спросил своего старшего дядю, служившего в кадрах с 38-го, правда ли это. Дядя Петя, как-то глядя в сторону, пробурчал что – да, разговоры такие ходили… А проблема начала войны с Германией так до сих пор и остается туманной ареной борьбы «патриотических» и «антипатриотических» историков…
Между всеми этими пионерскими делами и развлечениями, в соответствии с предписаниями доктора Фельдмана, я, действительно, во время купаний несколько раз прополоскал горло морской водой, а остальное, видимо, доделали местный микроклимат и взрослеющий организм. Так что я полностью вылечился от своих хворей и вот делюсь теперь советом старого доктора – лучшего ухогорлоноса СССР. И когда в общественном питании советского народа произошла миниреволюция – в продуктовых магазинах стали массово устанавливать миксеры и поить народ молочными коктейлями из мороженого, сиропа и молока по 10 копеек стакан, я уже потреблял это лакомство совершенно безбоязненно.
А в следующий – 5-й – класс я пошел в десятилетнюю 108-ю школу, намного ближе к дому – только пересечь 67-ю больницу. Правда, там, прямо у дыры в заборе, через которую я проникал в больницу, располагалась маленькая больничная прозекторская, и на 11-летнего пацана санитары, с ржанием вытаскивающие из машины носилки с голым трупом, у которого сопроводительные документы засунуты в сложенные на груди руки, произвели неизгладимое впечатление.
В октябре того 61-го года произошла еще одна важная перемена в жизни – родился мой младший брат, которого после ожесточенной внутрисемейной дискуссии назвали редким именем Александр. На этом закончилось мое существование в качестве единственного ребенка, что в принципе полезно для пресечения эгоцентрического развития личности. Правда, когда у тебя с младшим братцем разница в одиннадцать с половиной лет, он уже воспринимается, скорее, как племянник… Тем более, что я тут же был брошен на курс молодого бойца (отца) – сначала гуляние с коляской, а потом и оставление с этим персонажем один на один: пеленание, мытье, экстренное застирывание подгузников, которые тогда не были одноразовыми, переодевание ползунков и кормление из бутылочки. Когда у меня свои дети появились, учиться мне уже было нечему…
По тем временам ничего необычного не было в том, чтобы 11-летний мальчишка умел и простирнуть, и покормить. До сих пор помню, что для оценки температуры молочной смеси в бутылочке надо было, надев на нее соску, капнуть содержимое на тыльную сторону ладони, и, если ощущалось только слабое тепло, значит, все в порядке – можно кормить, не обожжешь.
Недавно в разговоре с младшим братом, у которого уже своих трое дочерей, услышал, что он до сих пор помнит, что я лучше всех укладывал его спать – подтыкал одеяло со всех сторон, так ему было тепло и уютно. А дело было в том, что я в силу возраста еще очень хорошо помнил, как лучше всего засыпалось мне самому… И теперь я знаю, что сделал в жизни, по крайней мере, одно доброе дело – и это меня радует, – помните анекдот, в котором бог отвечает человеку, в чем был смысл его жизни: – В поезде в Винницу в вагоне-ресторане женщина попросила тебя передать ей солонку? Ты передал. Вот в этом!
Главной же моей и самой нелегкой педагогической обязанностью были ежеутренние марш-броски за полтора километра – на молочную кухню за всякими В-гречами и В-кефирами. Как-то постепенно оказалось, что все мамины знакомые, с кем она вместе гуляла с колясками, тоже очень занятые люди, и к весне я уже таскал из молочной кухни чемоданчик с 21 бутылочкой для пятерых младенцев. Зимой, в темноте эти прогулки с хрупкой стеклотарой по заледеневшим дорожкам, из-за которых приходилось вставать часа на полтора раньше, доставляли особый кайф… Правда, по воскресеньям чадолюбивые родители, у которых рабочий день в субботу уже был укороченным, давали мне выспаться.
Случилось той осенью и удивительное событие, равного которому не было в истории ни до, ни после. Непререкаемый лидер советского хоккея команда ЦСКА, из которой по каким-то причинам был устранен один из ее основателей и неизменный тренер Анатолий Тарасов, вдруг продул динамовцам с небывалым счетом – 5:14. При этом в первом периоде легендарный непробиваемый Николай Пучков запустил 8 штук, а по рассказам бывших на игре остальные армейцы только присутствовали на площадке… Лишь в третьем периоде команда забегала и закончила его 5:5… Иначе, как слив тренера Виноградова это воспринимать было невозможно.
После этого в команду вернулся отставленный Тарасов, а Николай Георгиевич Пучков был навсегда отправлен в питерский СКА. Кончился этот сезон проигрышем «Спартаку» в знаменитом скандальном матче. Конфликт разыгрался из-за того, что в те времена в середине третьего периода звучал свисток, игра останавливалась, и команды менялись сторонами площадки. И вот именно на последних секундах первой десятиминутки третьего периода армейцы, которые весь матч проигрывали и которым для чемпионства требовалась хотя бы ничья, сравняли счет. Однако судья-секундометрист заявил, что шайба пересекла линию ворот уже после окончания времени по контрольному секундомеру, хотя на табло еще оставалась секунда. Гол отменили, Тарасов уперся и увел команду с поля, судьи тоже не сдавались, бедный Николай Николаевич Озеров не знал, что и врать-то – от эфира его не отключили, и пришлось ему импровизировать на разные лады. Через полчаса после нажима с самого верха (в правительственной ложе восседал сам Брежнев) матч возобновили, и мы все же лишились в том году чемпионства. Тарасову эта эскапада стоила временного лишения звания «Заслуженный тренер СССР».
К тому же времени относится и знакомство, смысл и последствия которого стали ясны много позже. В нашем дворе во главе шайки дошкольной мелюзги носилась самая толстая и здоровая из них деваха – Танька из 35-й квартиры. Ее семья раньше жила в 3-м Красноармейском переулке – недалеко от Нарышкинской аллеи, а потому по «улучшению жилищных условий» мы и попали в один дом на Хорошевке. Моя мама узнала, что в этой квартире живет преподавательница Стасовской музыкальной школы, и пошла у нее выяснять, нет ли тут поблизости учителя по фортепьяно, на котором меня мучили еще на старой квартире. Так мы познакомились с семьей этой преподавательницы, в том числе с ее племянницей – моей будущей женой.
Соседи. Мой полугодовалый брат Сашка и восьмилетняя Танька из 35-й квартиры. Семейный архив. 1962 г.
Тогда никаких особых мыслей в связи с этим не возникло. Ну, посудите сами: я уже, можно сказать, старший школьник – перешел в 5-й класс, и какая-то мелочь детсадовская… Когда соседская дочка подросла, перспективы каких-то особо приязненных отношений еще уменьшились, потому что теперь мне ставили ее в пример за аккуратность, а ей меня – за трудолюбие, потому что я выносил помойное ведро и бегал в магазины и на молочную кухню (про трудолюбие – это был миф, я все это делал по обязанности, а не по душевной склонности). Ничего, кроме раздражения с обеих сторон, это вызвать не могло.
Только уже будучи студентом университета, я вдруг обнаружил, что из дочки соседей, ставших друзьями нашей семьи, из вот этой девахи, которая била мальчиков в своем детсаду с чисто женским обоснованием: – А что он второй лезет! – выросла изящная юная девушка с тонким профилем, получившая-таки, в отличие от меня, настоящее музыкальное образование и собирающаяся дальше заниматься биологией. Ну, как тут студенту выпускного курса Биофака МГУ было не помочь очаровательному созданию?
…Тот молодой парень в райжилотделе, внезапно проникшийся добрыми чувствами к моим родителям, не только дал нам первое человеческое жилье, но и, поселив нас именно в 10-м корпусе 75-го квартала Верхних Мневников, предопределил кое-что в моей судьбе.
53
приговорили к 10 годам, а затем обменяли на Рудольфа Абеля. На мой вкус мы тут сильно выиграли, получив аса разведки за рядового пилота.
54
Ныне – Центральный музей авиации и космонавтики все на той же Красноармейской
55
Впоследствии – Бульвар генерала Карбышева
56
Государственная районная электрическая станция
57
Это когда мы кубок УЕФА взяли
58
написал и сообразил, что буду либо не понят, либо понят, но не так. «Лайками» летчиков называли по аналогии с первой космонавткой – собакой Лайкой, пилотировавшей Спутник-2 и давшей имя сорту очень посредственных сигарет. О «лайках» как символах одобрения в фейсбуке тогда не подозревали, и до подозрений оставались еще десятилетия.