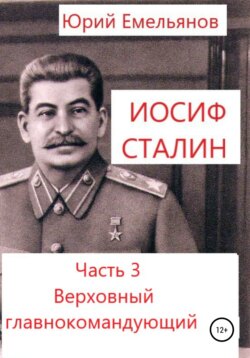Читать книгу Иосиф Сталин. Часть 3. Верховный главнокомандующий - Юрий Емельянов - Страница 7
Глава 7. Последнее немецкое наступление на Москву.
ОглавлениеОдновременно с руководством Действующей армией Сталин осуществлял контроль за беспримерной в мировой истории по своим масштабам эвакуацией промышленных предприятий в тыл страны. Сталин требовал, чтобы эвакуируемые оборонные предприятия в кратчайшие сроки вводились в строй и выпускали продукцию столь необходимую для фронта. Ведущий конструктор артиллерийских вооружений генерал-полковник В.Г. Грабин вспоминал, как осенью 1941 году, когда немцы стояли у Москвы, ему позвонил Сталин и сказал: "Вам хорошо известно, что положение на фронте очень тяжелое. Фашисты рвутся к Москве. Под натиском превосходящих сил противника наши войска с тяжелыми боями отступают. Фашистская Германия имеет количественное превосходство в вооружении. Независимо от этого фашистскую Германию мы победим. Но, чтобы победить с меньшей кровью, нужно в ближайшее же время иметь больше вооружений. Очень прошу вас, сделайте все необходимое и дайте поскорее как можно больше пушек".
25 октября было принято постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б), в котором на Н.А.Вознесенского была возложена обязанность "представлять в Куйбышеве Совет Народных Комиссаров СССР, руководить работой эвакуируемых на Восток наркоматов… и добиться того, чтобы в кратчайший срок были пущены в ход заводы, эвакуируемые на Волгу, Урал и Сибирь".
Несмотря на огромные трудности в тылу налаживалось производство оборонной промышленности. Мой отец часто рассказывал, как в начале осени 1941 года он получил мандат за подписью И.В.Сталина, гласивший, что он, Емельянов Василий Семенович "является уполномоченным Государственного Комитета Обороны на заводе по производству танков" и что на него "возлагается обязанность немедля обеспечить перевыполнение программы по производству корпусов танков".
На уральском заводе, на который был командирован отец, только начинался монтаж оборудования для танкового производства. В обычных условиях такой монтаж должен был занять четыре-шесть месяцев. Отец пошел к монтажникам и объяснил им: "Немцы под Москвой. Нужны танки. Нам нужно точно знать, когда будет смонтирован цех". Монтажники попросили двадцать минут на размышление. Когда отец к ним вернулся, их бригадир сказал: "Распорядитесь, чтобы нам несколько лежаков поставили… Спать не придется, отдыхать будем, когда не сможем держать в руках инструменты. Скажите, чтобы еду из столовой нам тоже сюда доставляли, а то времени много потеряется. Если сделаете, что просим, то монтаж закончим через семнадцать дней". По словам отца, люди работали как единый человеческий организм. Рабочие уложились в намеченный ими невозможный по техническим нормам график монтажа оборудования ценой невероятного напряжения своих сил. Впрочем, как вспоминал отец, тогда такой труд в тылу был скорее правилом, чем исключением.
Задача отразить наступление врага, оказавшегося под Москвой, мобилизовывала всех советских людей. В эти дни Сталин вел напряженную работу по подготовке решительного поворота в ходе военных действий. Уже в середине октября Ставка приступила к развертыванию резервных армий, которые должны были обеспечить начало наступления Красной Армии. В соответствии с планом Ставки намечалось деблокировать Ленинград, закрыть дорогу немецким войскам на Кавказ, а для этого разгромить группировки войска, наступавшие на Ростов, ликвидировать угрозу Москве. Получив сведения разведки, в том числе и от легендарного Рихарда Зорге, о том, что Япония приняла решение не начинать военные действия на Дальнем Востоке, а развернуть агрессию в южном направлении, Сталин и военное командование приняли решение перебросить войска, стоявшие на границе с Маньчжурией, оккупированной японцами, к Москве. В считанные дни войска были переброшены по Транссибирской железной дороге на фронт. Прибытие бойцов Дальневосточной армии, которых стали именовать "сибиряками", сыграло важную роль в битве за Москву.
Но еще до того, как "сибиряки" вступили в бой, Сталин постарался добиться психологического перелома в сознании советских людей. Он принял решение отметить годовщину Великой Октябрьской социалистической революции так, как это было принято с 1918 года – торжественным собранием 6 ноября и парадом 7 ноября на Красной площади.
Торжественное собрание состоялось 6 ноября 1941 года не в Большом театре, как это было обычно, а на станции "Маяковская" московского метрополитена. В своем докладе Сталин отметил, что со времени своего выступления 3 июля "опасность для нашей страны… не только не ослабла, а, наоборот, еще более усилилась". Он говорил: "Немцы ведут теперь войну захватническую, несправедливую, рассчитанную на захват чужой территории и покорение чужих народов". Сталин подчеркивал, что Гитлер ставит целью истребление славянских народов и прибегает для этого к самым бесчеловечным методам.
Для такой оценки были веские основания. К этому времени на совещании у Гитлера 16 июля 1941 года было принято решение: "Создание военной державы западнее Урала не может снова стать на повестку дня, даже если бы нам для этого пришлось воевать 100 лет… Вся Прибалтика должна стать частью империи. Крым с прилегающими районами (области севернее Крыма) также должен быть включен в состав империи. Приволжские районы точно так же, как и район Баку, должны быть включены в империю. Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду больших залежей никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии". Беседуя в Ставке со своими генералами 27 июля 1941 года, Гитлер уточнил: "Когда я говорю по эту сторону Урала, я имею в виду линию 200 или 300 километров к востоку от Урала. Мы сможем держать это восточное пространство под контролем с помощью 250 тысяч солдат плюс кадры хороших правителей… Немцы должны всегда властвовать над этим пространством в России. Не может быть худшей ошибки, чем пытаться просвещать находящиеся там массы. В наших интересах достаточно, чтобы эти люди могли разбираться в дорожных знаках". 17 октября 1941 года Гитлер говорил: "В русских городах мы селиться не будем. Пусть они разрушаются без нашего вмешательства. У нас нет ни малейших обязательств по отношению к этим людям. Слово "свобода" означает право мыться по праздникам. Наша задача одна: германизировать эту страну путем ввоза туда немцев, на коренное население надо смотреть, как на краснокожих".
Позже в приговоре Международного трибунала в Нюрнберге было сказано: "8 сентября 1941 года были изданы правила об обращении с советскими военнопленными, в которых говорилось: "Большевистский солдат потерял право на то, чтобы с ним обращались как с честным противником, в соответствии с правилами Женевской конвенции… При малейшем намеке на неподчинение, особенно в случае с большевистскими фанатиками, должен быть отдан приказ о безжалостном и энергичном действии. Неподчинение, активное или пассивное сопротивление должны быть сломлены немедленно силой оружия (штыки, приклады и огнестрельное оружие)… Каждый, кто при проведении этого приказа не прибегнет к своему оружию или сделает это недостаточно энергично, подлежит наказанию".
В своем докладе Сталин приводил различные высказывания Гитлера, и Геринга, свидетельствующие об их намерении истребить русский народ и другие славянские народы. Комментируя эти заявления и одно из обращений немецкого командования к солдатам с призывами к жестокости, Сталин говорил: "Вот вам программа и указания лидеров гитлеровской партии и гитлеровского командования, программа и указания людей, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей".
В то же время Сталин отмечал огромные трудности ведения войны Советским Союзом против Германии, на стороне которой выступили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, в одиночку без наличия "второго фронта" на западе Европы. Однако, он указывал, что успехи немцев – временны, что европейский тыл Германии – непрочен, как непрочен и германский тыл гитлеровских захватчиков. Он обращал внимание на укрепление коалиции СССР, Великобритании и США и указывал: "Если соединить моторное производство США, Великобритании и СССР, то мы получим преобладание в моторах по сравнению с Германией, по крайней мере, втрое. В этом одна из основ неминуемой гибели гитлеровского разбойничьего империализма". Он возлагал большие надежды и на "появление второго фронта на континенте Европы".
И все же основным залогом грядущей победы над врагом являлся, по мысли Сталина, моральный перевес советского народа страны над агрессором. Сталин подчеркивал справедливые цели Великой Отечественной войны советского народа: "У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих территорий, – все равно, идет ли речь о народах и территориях Европы или о народах и территориях Азии, в том числе и Ирана. Наша первая цель состоит в том, чтобы освободить наши территории и наши народы от немецко-фашистского ига". Другая цель, по словам Сталина, состояла в том, чтобы помочь "славянским и другим порабощенным народам Европы… в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят".
Сталин утверждал, что "неудачи Красной Армии не только не ослабили, а наоборот, еще больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов СССР… Любое государство, имея такие потери территории, какие имеем мы теперь, не выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдержал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что советский строй является теперь наиболее прочным строем". Сталин исходил из того, что "моральное состояние нашей армии выше, чем немецкой, ибо она защищает свою Родину от чужеземных захватчиков и верит в правоту своего дела, тогда как немецкая армия ведет захватническую войну и грабит чужую страну, не имея возможности поверить хотя бы на минуту в правоту своего гнусного дела". Сопоставляя духовные богатства русской культуры, которыми вдохновлялись все советские люди, с бездуховностью нацистов Сталин провозглашал: "И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!"
Подчеркивая патриотический характер Великой Отечественной войны, направленной на спасение народов нашей страны от германского порабощения, Сталин выражал уверенность в скором переломе в ходе военных действий: "Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Отныне наша задача… будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов. Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам!" Он повторил лозунг первых дней войны: "Наше дело правое – победа будет за нами!"
Новое выступление Сталина состоялось на следующий день 7 ноября 1941 года во время традиционного парада по случаю годовщины Октября. Парад готовился с величайшими предосторожностями с целью не допустить утечки информации. Даже участникам парада не было сказано заранее, для чего их тренируют. Хотя ими высказывались разные предположения, но большинство сходилось на том, что это просто "сколачиваются подразделения" перед отправкой на фронт. Если бы немцы узнали, что 7 ноября на Красной площади состоится парад, они вероятно предприняли бы попытку воспользоваться уникальной возможностью разделаться со Сталиным и с другими руководителями Советской страны. А. Рыбин утверждал, что в ответ на подобные сомнения командующего Московским военным округом П.А. Артемьева Сталин ответил: "Во-первых, ни один вражеский самолет не должен прорваться в Москву. А во-вторых, если все же сбросит бомбу, то уберите пострадавших и продолжайте парад". Однако вражеские самолеты в Москву не прорвались, чему помогла погода: московское небо утром 7 ноября было затянуто низкими тучами.
По воспоминаниям Н.С. Власика, "утром 7 ноября т.Сталин встал очень рано. Было еще темно, на улице бушевала метель, нанося огромные сугробы снега. Я проводил его на Красную площадь ровно в 8 часов, т. Сталин и руководители партии и правительства поднялись на Мавзолей". Парад начался на два часа раньше обычного. На площади выстроились пехотинцы, курсанты артиллерийского училища, военные моряки, войска НКВД, отряды народного ополчения, кавалерия, артиллерия, танки. Командовал парадом командующий войсками Московского военного округа генерал П.А. Артемьев, возглавлявший одновременно Московскую зону обороны.
Как и на многих довоенных парадах его принимал Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. По словам Власика, "объезжая войска и поздравляя их с праздником, т. Буденный слышал в ответ такое горячее и дружное "ура!", что я увидел, как прояснилось лицо у т. Сталина, каким оно стало радостным и довольным. Стараясь стоять всегда на виду у Сталина, чтобы он мог в любую минуту позвать меня, я сам не спускал с него глаз. И действительно, я ему понадобился. Надо сказать, что перед парадом была договоренность передавать парад по радио только по площадям Москвы. Подозвав меня, т. Сталин спросил, нельзя ли сделать так, чтобы передать Красную площадь в эфир, то есть, чтобы парад на Красной площади слышал весь мир. Я спустился вниз, в Мавзолей, где у меня дежурил начальник отдела связи т.Потапов, там же находился министр связи (точнее нарком связи – Прим. авт.), и передал им желание т. Сталина. Получив в ответ: "Все будет обеспечено, – я вернулся, чтобы доложить об этом Сталину". Вопреки традиции слово для выступления взял не принимавший парад Буденный, а Сталин. Когда Власик поднялся на трибуну Мавзолея, Сталин "уже начал свое историческое выступление. Я обратился к Молотову, который стоял рядом, и сказал громко, чтобы слышал т. Сталин: "Красная площадь в эфире!"
В своем выступлении Сталин, вспоминал первый год гражданской войны и указывал, что "теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием и сырьем, чем 23 года назад… Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины… Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад". В то же время Сталин утверждал, что "враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют… Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик – и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений". Он уверенно говорил о том, что Красная Армия, упорно сражавшаяся в те дни за населенные пункты, находившиеся в непосредственной близости от Москвы, будет скоро освобождать Европу.
Обращаясь к участникам парада, он говорил: "На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Димитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!".
Под звуки военных маршей начался парад. Оркестром дирижировал капельмейстер оркестра дивизии имени Дзержинского военинтендант 1 ранга В.А. Агапкин, автор знаменитого марша "Прощание славянки", сочиненного в 1914 году в дни начала войны против Германии. Мимо Мавзолея Ленина проходили части 2-й Московской стрелковой дивизии, кавалерия, артиллерия, танки. Участники парада шли с Красной площади прямо на фронт.
Парад на Красной площади 7 ноября наглядно иллюстрировал уверенность Сталина в неизбежном разгроме врага, выраженную им в его выступлениях. Торжественное собрание 6 ноября и парад 7 ноября, по словам Г.К. Жукова, сыграли "огромную роль в укреплении морального духа армии, советского народа и имело большое международное значение". Советские летчики сбрасывали за линией фронта газеты с отчетами о торжественном заседании 6 ноября и параде 7 ноября. Население оккупированных немцами земель узнавало, что Москва не сдалась, что Москва уверенно готовит отпор врагу.
Однако немецкое командование не отказалось от плана захвата Москвы. На совещании в Орше 13 ноября Гитлер заявил, что Москву надо взять любой ценой. В своем приказе Гитлер писал: "Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии… в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей Москвой… Солдаты! Перед вами Москва! За два года войны все столицы континента склонились перед вами, вы прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите силу вашего оружия, пройдите по ее площадям. Москва – это конец войны. Москва – это отдых. Вперед!"
Еще до начала нового наступления немцев на Москву, Сталин, судя по мемуарам Жукова, непрерывно советовался с ним относительно возможных направлений ударов немецких войск и порой эти обмены мнениями носили острый характер. 16 ноября Сталин вновь позвонил Жукову и спросил: "Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас это с болью в душе. Говорите честно, как коммунист". Услыхав уверенный ответ Жукова и одновременно его просьбу дать две армии и 200 танков, Сталин комментировал: "Это неплохо, что у вас такая уверенность… Позвоните в Генштаб и договоритесь, куда сосредоточить две резервные армии, которые вы просите. Они будут готовы в конце ноября, но танков пока мы дать не сможем".
15 – 16 ноября началось последнее немецкое наступление на Москву. 16 ноября немцами были предприняты попытки прорвать наш фронт, чтобы по Волоколамскому шоссе выйти к Москве. Призывы Сталина к самоотверженности в боях за нашу Родину, прозвучавшие 6 и 7 ноября, вдохновляли защитников Москвы. Ноябрьские дни 1941 года дали яркие примеры героизма советских людей, вошедшие в историю нашей Родины. На разъезде Дубосеково 28 бойцов из 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И.В. Панфилова приняли бой с ротой немецкой пехоты, а затем с немецкими танками. Бой продолжался свыше 4 часов. Бойцы-панфиловцы подбили немало танков и не дали врагу прорваться к Волоколамскому шоссе. Большинство защитников погибло. О подвиге 28 панфиловцев узнала вся страна. В газетном очерке приводились слова политрука роты В.Г. Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!" Эти слова стали боевым призывом защитников Москвы.
С таким же упорством защищали советские воины и другие участки фронта. На соседнем участке у деревни Мыканино 17 бойцов остановили продвижение танковой колонны. На целый день задержали движение 20 вражеских танков 11 саперов севернее Волоколамска.
И все же, несмотря на героическое сопротивление советских войск, наступление немцев на Москву продолжалось. 17 ноября противник продвинулся на волоколамском направлении. Одновременно шли бои под Клином, в районах Солнечногорска и Истры. 18 ноября немцы прорвали оборону под Тулой и развернули наступление на Каширу и Коломну. 24 ноября наши войска оставили Клин. 25 ноября Риббентроп заявил в Берлине, что русские потерпели поражение, имеющее значение для исхода войны, от которого они ввиду недостатка обученных резервов и военных материалов никогда уже не смогут оправиться.
27 ноября немецкие войска подошли к каналу Москва – Волга и на другой день форсировали его. Однако на ряде участков (район Яхромы и Красной Поляны, рубеж Звенигород – озеро Нарские Пруды, окраины Венева) противник был остановлен.
Во время второго наступления немцев на Москву Сталин связывался и непосредственно с командующими армий, защищавших Москву. Командовавший тогда 16-й армией К.К. Рокоссовский был вызван для телефонного разговора со И.В. Сталиным вскоре после того, как немцы в очередной раз потеснили наши войска на истринском участке фронта и по этому поводу имел "бурный разговор" с командующим фронтом Г.К. Жуковым. "Идя к аппарату, я представлял, под впечатлением разговора с Жуковым, какие же громы ожидают меня сейчас. Во всяком случае, я приготовился к худшему. Взял разговорную трубку и доложил о себе. В ответ услышал спокойный, ровный голос Верховного Главнокомандующего. Он спросил, какая сейчас обстановка на истринском рубеже. Докладывая об этом, я сразу же пытался сказать о намеченных мерах противодействия. Но Сталин мягко остановил, сказав, что о моих мероприятиях говорить не надо. Тем подчеркивалось доверие к командиру. В заключение разговора Сталин спросил, тяжело ли нам. Получив утвердительный ответ, он сказал, что понимает это: "Прошу продержаться еще некоторое время, мы вам поможем…" Нужно ли добавлять, что такое внимание Верховного Главнокомандующего означало очень многое для тех, кому оно уделялось.
А теплый отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность. Не говорю уже, что к утру прибыла в армию и обещанная помощь – полк "катюш", два противотанковых полка, четыре роты с противотанковыми ружьями и три батальона танков. Да еще Сталин прислал свыше 2 тысяч москвичей на пополнение".
В конце ноября Сталин вновь звонил Рокоссовскому. "Он спросил, известно ли мне, что в районе Красной Поляны появились части противника, и какие принимаются меры, чтобы их не допустить в этот пункт. Сталин особенно подчеркнул, что из Красной Поляны фашисты могут начать обстрел столицы крупнокалиберной артиллерией". Рокоссовский сообщил Сталину о принимаемых им мерах, а Сталин, в свою очередь, сказал генералу, что "Ставка распорядилась об усилении этого участка и войсками Московской зоны обороны". Утром следующего дня армия Рокоссовского нанесла контрудар по противнику, выбили немцев из Красной Поляны и отбросили их на 4-6 километров к северу. В Красной Поляне были захвачены крупнокалиберные орудия, предназначенные для обстрела Москвы.
Продвижение немцев к столице лишь усиливало ожесточенное сопротивление советских бойцов. Их чувства были выражены в "Песне защитников Москвы" на музыку Б.А. Мокроусова и слова А.А. Суркова:
"В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем,
Родная столица за нами,
Рубеж нам назначен вождем.
Мы не дрогнем в бою
За столицу свою!
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!"
Постоянно звучала тема исторической преемственности воинского подвига. На распространенном тогда плакате Кукрыниксы был изображен ряд советских воинов, за спинами которых виднелись изображения Чапаева, Суворова, Александра Невского. Подпись к плакату С.Маршака гласила:
"Бьемся мы здорово!
Рубим отчаянно!
Внуки Суворова,
Дети Чапаева".
В эти дни в печати публиковались сообщения об актах самопожертвования, совершенных нашими бойцами в ходе боевых действий с начала войны. 20 ноября "Правда" опубликовала репортаж о гибели младшего политрука Александра Панкратова. 24 августа в боях под Новгородом он закрыл своим телом огонь пулемета. На другой день "Комсомольская правда" сообщила о подвиге рядового Николая Сосновского, который 24 сентября в боях на Валдае закрыл своим телом пулеметную амбразуру дзота.
Наряду с бойцами Красной Армии город Венев защищали местные жители, из которых был сформирован батальон истребителей танков. В тылу наступавших немецких войск активно действовали партизаны. Среди них было немало московских комсомольцев. Ярким примером мужества стала гибель 29 ноября в селе Петрищево юной партизанки Зои Космодемьянской. Девушку подвергли тяжелым пыткам, но, когда ее вели на казнь, она смело выкрикивала: "Всех не перевешаешь! Сталин с нами! Сталин придет!"
Столкнувшись с упорным сопротивлением советских войск и народного ополчения, немецкое наступление выдыхалось. Сравнительно небольшое продвижение немецких войск к Москве во второй половине ноября было достигнуто ценой больших потерь в живой силе и технике. В то же время им нигде не удалось прорвать оборону Красной Армии. 29 ноября Сталин на его вопрос, заданный Жукову ("А вы уверены, что противник подошел к кризисному состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-либо новую крупную группировку?"), получил категоричный ответ: "Противник истощен". В этот день 29 ноября в ходе переговоров фельдмаршал Бок и Гальдер пришли к выводу, что "если происходящее сейчас наступление на Москву с севера не будет иметь успеха, то Москва станет новым Верденом, то есть сражение превратится в ожесточенную фронтальную бойню".
И все же в начале декабря Гитлер приказал активизировать наступательные операции. 1 декабря немецким войскам удалось прорвать оборону наших войск у Наро-Фоминска. 2 декабря Гальдер писал: "Сопротивление противника достигло своей кульминационной точки. В его распоряжении нет больше никаких новых сил". В начале декабря информационное бюро в Берлине сообщило: "Германское командование будет рассматривать Москву, как свою основную цель даже в том случае, если Сталин попытается перенести центр тяжести военных операций в другое место. Германские круги заявляют, что германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Москвы через хороший бинокль".
Однако новое наступление немцев опять захлебнулось. Противник был остановлен в 15 километрах севернее Наро-Фоминска и был вынужден повернуть в район Голицыно, где был остановлен и разгромлен. Фельдмаршал Бок докладывал штабу сухопутных войск, что он не оставляет надежды на небольшое продвижение вперед. Бок заметил, что "уже близится час, когда силы наших войск иссякнут".
"4 декабря, – по словам Типпельскирха, – была предпринята отчаянная попытка еще раз бросить армию в наступление. После захвата небольших участков соединения 4-й армии на следующий день отошли на исходные позиции; 2-я танковая армия также прекратила свое наступление после того, как ей не удалось захватить Тулу, которая была у нее как бельмо на глазу".
Вспоминая последнее наступление на Москву, Типпельскирх писал: "Вначале слабый мороз и сверкающий под яркими лучами солнца иней поднимали дух солдат, идущих, как им казалось, в последнее наступление, и благоприятствовали продвижению. Но уже в ближайшие дни погода резко изменилась, а к концу месяца ударили морозы, доходившие до тридцати и больше градусов ниже нуля".
Объясняя свою неудачу овладеть Тулой в своих воспоминаниях, Гудериан писал: "112-я пехотная дивизия вошла в соприкосновение с… новыми сибирскими частями. Поскольку одновременно нас атаковали танки противника… то наши поредевшие войска не смогли дать отпор этим свежим силам. Прежде чем осуждать дивизию, следует помнить, что в каждом полку было уже около 500 человек обмороженных, что из-за мороза пулеметы не действовали и что наша 37-миллиметровая пушка оказалась неэффективной против русских танков Т-34. Результатом всего этого была паника… Это случилось впервые в ходе русской кампании… Боеспособность пехоты пришла к концу".
Обвинения русских морозов в срыве наступления немцев на Москву кочевали из одной книги немецких авторов в другую. Карелл говорил о том, что морозы якобы достигли 54 градусов, а Гудериан писал даже о 68 градусов. О том, что такие морозы превратили бы Москву и Подмосковье в тундру, эти авторы не задумывались. На самом деле, как указывал немецкий военный историк К. Рейнгард, температура воздуха в ноябре под Москвой была на уровне – 5,3 градусов. Ее наибольшее понижение до – 20 градусов произошло между 13 и 18 ноября.
Маршал Жуков писал: "Нет! Не дождь и снег остановили фашистские войска под Москвой. Более чем миллионная группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был их народ, столица, Родина". Эти качества советские бойцы проявляли в условиях, когда на стороне противника было явное преимущество в численности войск и качестве вооружения.
В то же время очевидно, что германская армия на самом деле была не подготовлена к зимней кампании, и это лишний раз свидетельствовало об авантюризме Гитлера и его военачальников. Генерал Блюментрит признавал, что немецким солдатам "суждено было провести свою первую зиму в России в тяжелых боях, располагая только летним обмундированием, шинелями и одеялами". В то же время, замечал генерал, "личный состав большинства русских частей был обеспечен меховыми полушубками, телогрейками, валенками и меховыми шапками-ушанками. У русских были перчатки, рукавицы и теплое нижнее белье".
Комментируя эти слова Блюментрита, авторы "ИВОВ" писали: "С этими признаниями битого фашистского генерала нельзя не согласиться. Красная Армия действительно оказалась лучше подготовленной к боевым действиям в зимних условиях. Из приведенных Блюментритом фактов напрашивается вывод не только о различной степени подготовленности к зиме немецкой и советской армий, но и о том, что советское Верховное
Главнокомандование оказалось дальновиднее немецкого генерального штаба. Руководители Коммунистической партии и Советского правительства хорошо понимали, что в современных войнах между крупными государствами, обладающими огромными материальными и людскими ресурсами, исход войны не может быть решен в одной быстротечной кампании. Партия и правительство не рассчитывали на легкую и быструю победу над сильным и опытным врагом. С первых же дней войны они призывали народ к мобилизации всех материальных и духовных сил для ведения длительной и упорной борьбы против немецко-фашистских захватчиков… Поддержанная всем народом, Красная Армия к концу 1941 года не только отразила удары врага и остановила его, но и создала необходимые предпосылки для нанесения захватчикам сокрушительного ответного удара. И этот момент, которого ждал весь советский народ, наступил в начале декабря 1941 года".