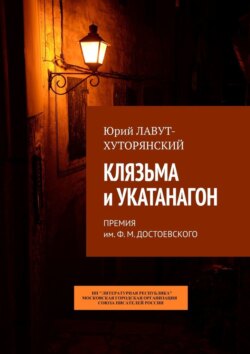Читать книгу Клязьма и Укатанагон. Премия им. Ф.М. Достоевского - Юрий Лавут-Хуторянский - Страница 6
ЧАСТЬ 1. КЛЯЗЬМА
Глава 3
ОглавлениеОказалось, что никакой необходимости в существовании деревни Поречье нет. Так же, как в существовании тысяч таких или подобных деревень, и даже вообще всех русских деревень. Эта черта под тысячелетним существованием крестьянства, так легко и резко проведенная налетевшей свободной жизнью, и стала настоящим его освобождением: свобода сама, разуверившись в равнодушных к себе людишках, взяла и вымела метлой всех за тюремные ворота на пустую голодную дорогу – и побежала деревня в города и городишки, возвращая мещанскому населению его прежнюю крестьянскую основу. Стало вдруг совершенно ясно, что ни ценности, ни уникальности, ни даже простой хозяйственной надобности никогда и не было в сохранении огромного рабского слоя русского населения, что вовсе не земля-матушка кормила, поила и благодетельствовала, а согбенные и смиренные российские человеки тащили на себе бескрайнюю нечернозёмную поклажу, превращавшую их самих в безликую массу, землю и почву, и не могли они иначе распрямиться, кроме как сбросив её с горба всю целиком, вместе с коровами, огородами, избушками и серой крестьянской нищетой. Исторический разгром жизней миллионов сельских российских семей в конце двадцатого века прошёл малозамеченным, будто и не было в этом великом переселении русской трагедии, мучений и страданий, разорений, бессилия и ранних смертей: холопам не важны холопы. Прежние деревни, отличавшиеся разве что живописным местоположением, зачахли, превратившись в то, названия чему неспешный русский язык еще не придумал. Клязьма, впадающая в Оку, впадающую в Волгу, теперь, освободившись от непомерной и дурной человеческой нагрузки, обжилась растительностью и рыбой, но одновременно стала мелеть от безделья. Входившая когда-то в большой речной торговый путь, по которому местные верёвки, цепи и канаты через Каспий доезжали аж до Персии, Клязьма теперь медленно и налегке шествовала по всё более заболачивающейся Мещерской равнине.
***
Посадив Евгению на электричку, Татьяна позвонила Светлане и, объяснив свой скорый отъезд, напомнила об оставленной на зиму в деревне Степаниде Михайловне и семейных планах вернуться в Поречье на зимние каникулы; упомянула и о том, что на станции она посадила Евгению в поезд до Москвы. Дружба и дальнее родство со Светланой требовали правильного отношения к сложившейся двусмысленной ситуации, но говорить о беременности Жени она не чувствовала себя обязанной. Очень закрытое, как ей казалось, поведение Евгении она считала достойным и думала, что перед той стоит нелёгкий выбор: оставлять ребёнка или нет. Она знала, какая душевная травма, а может быть неисправимый надлом, ждёт её при одном варианте, и какая нищенская, унизительная жизнь матери-одиночки при другом, поэтому сказала на платформе: «Женя, послушай меня, пожалуйста. Извини, что влезаю с советом, но, может быть, он окажется тебе полезным. Зачеркни всё, всю прошлую жизнь, в смысле эту вашу историю – понимаешь меня? Перетерпи. Перетерпишь и начнёшь потом с чистого листа, понимаешь? Подумай! Телефон мой у тебя есть, звони, если что – помогу». Евгения продолжала выбирать мелочь из карманов, кивнула и пошла к кассе, почти сразу вернулась и только тогда посмотрела на неё. Народ уже прибывал на платформу, и Татьяна строгим полушепотом добавила: «Сделай вот как. Чтобы не мучиться виной, реши, сколько их у тебя будет, твёрдо реши, вот прямо сейчас, пообещай себе, и потом, когда пора придёт – выполнишь обещанное, тогда и виновата не будешь, понимаешь?»
– Кого у меня сколько будет? – как-то отстранённо спросила Евгения.
– Детей, – сухо сказала Татьяна, – не мужиков же.
– А-а, – как-то длинно протянула Евгения, обернулась и посмотрела в ту сторону, откуда должен был идти поезд. Потом снова взглянула на Татьяну: – Не видно, задерживается что ли? Не знаю, как бог даст.
Это так между делом было сказано, что Татьяна сначала не поняла, что это ответ, и продолжала ждать.
– Ну ладно, думай сама, большая уже, – поняв сказанное и почувствовав сопротивление, завершила свои советы Татьяна. Потом, по дороге в Москву, ругала себя, что полезла с вечными своими самыми лучшими намерениями, хотя давно уже никому ничего не советовала. Она знала, почему полезла в этом случае: увидела в ней ту себя, прошлую, полудетскую, почувствовала тем точным чутьем, каким различают чужую и радуются своей человеческой породе. Первый раз за долгое-долгое время, и потому с большим удивлением, она увидела, что встречаются всё же ещё такие, какой она была когда-то.
От этого прощания на платформе, помимо досады от неточного шага, у неё оставалось ощущение какой-то упущенной детали, что-то не складывалось там, на платформе, что она хотела поправить, но так и не поправила, потому что полезла со своими советами, а деталь эта и улетела из памяти. Матери она звонила пару раз в неделю, дотошно расспрашивая про мелочи быта, про то, как там у нее картошка и морковь, сухо ли там, в подполе, много ли снега, куда ходила и когда вернулась от соседки, понимая по деталям, по интонации не про морковь, а про физическое самочувствие матери. Степанида Михайловна переезжать к ним в Москву отказывалась категорически: «Ты что, смерти моей хочешь?» «Господи, мамочка, ты о чём, – говорила каждый раз Татьяна, – просто не представляю как ты там одна, знай, если тебе там тяжело или скучно, мы тебя сразу заберём, позвони – и я тут же кого-нибудь за тобой пришлю, а если тебе что-то потребуется по хозяйству – Света и Сергей тебе помогут».
Через день после возвращения в Москву она позвонила матери и рассказала, как доехали, как прошло у Маши первое сентября – и вдруг за рассказом о мелочах деревенского быта услыхала, что Женя в Поречье. Тут она и вспомнила эту упущенную деталь: горсть мелочи, которую Женя выгребла из кармана и шевелила в ладони – Татьяна решила тогда, что нужно помочь ей с деньгами на билет и уже положила руку в карман, но ждала, что Женя или достанет кошелёк, или спросит о деньгах, но та пошла к кассе, хотя на билет до Москвы этой мелочи никак не могло хватить. И почему у неё была эта нищенская мелочь в кулаке – они ей прилично заплатили за уроки. Что происходит? Какая-то идиотская история. Она всё время промахивается, а казалось, так правильно всё разрулила, и для подруги, и для Жени этой. Она, видно, откладывает деньги – вот что, нужно было сразу ей денег на билет дать, может и купила бы тогда. Нет, всё равно бы не купила. И с советом не попала, и бестолку уговорила её ехать – театр в машине устроили. Потом, когда звонила ещё, узнала, что Евгения поселилась в доме Светланы и Сергея. Всё это было удивительно. Наверное, та, прежняя Татьяна поняла бы всё точнее в этих отношениях, а может, и говорила бы там, на платформе, по-другому, да где она, прежняя?..
Дождавшись, когда прореженные жители Нечерноземья, давно уже не ждущие милости от природы, откланяются сухим в этом году грядкам и, пятясь задом, утащат в подвалы и погреба тяжелые мешки, осень вызолотила леса. К середине сентября Поречье опустело, и Женя поняла, что, как ни считать своё будущее дитя делом божьим и надеяться на вышний промысел, необходимо самой срочно начинать содействовать этому таинственному промыслу и немедленно приступать к решению насущных земных проблем. Очень хотелось, конечно, как это было у неё каждый год, погружения в осеннее состояние прохладного и сосредоточенного счастья, хоть ненадолго стать покорной частью этой прощальной красоты, но не получалось. Не было знакомого чувства богомольного преклонения и вдохновляюще строгой ступеньки вверх, в высоту.
Бабушкин дом в Поречье годился только для летнего проживания. Когда она, почти два года назад, приезжала сюда с друзьями на зимние каникулы, больше трех дней они тогда не выдержали: отогреть дом было почти невозможно, из щелей дуло, запас дров мгновенно кончался, свет в комнатах ещё наладили, но водопровод перемёрз и за водой бегали к общей колонке на другом конце деревни. Ехать к матери тоже было невозможно, та жила в Коврове у Петра Викторовича, к которому сразу же переехала, как только Женя поступила в Иняз, то есть почти сразу после смерти отца. А сошлась с ним, как Женя подозревала, ещё когда отец был жив, может, даже ещё и до его болезни. То, что мама могла при болеющем отце иметь отношения с другим мужчиной, было тяжело, она отгоняла от себя детали их жизни того времени, которые теперь ей стали брезгливо-понятны. «Был бы жив папа, – думала Женя, – никаких у меня проблем вообще не было бы. В институт возвращаться смешно: нельзя явиться как ни в чем не бывало, отменить академку и учиться в состоянии тошноты и глубокой беременности, а после зимних каникул всё равно решать придётся с тем же академическим отпуском и одновременно ещё с жильём, потому что у замечательной Сёминой, вчетвером в маленькой двухкомнатной, как это было у них подряд три курса, не выживешь, вернее, как родишь – так всех как раз оттуда и выживешь, как свинья какая, этого нельзя. То есть что? Мне деваться некуда, что ли?!» Она заметила, что невольно ускорила шаг и задышала часто и неровно. Остановилась и постояла на месте.
«Я хитрю, – сказала она себе, – всё на самом деле не так. Всё можно, даже одной. И к девчонкам можно, перебиться, по крайней мере, до родов, а за это время подготовиться с жильём и финансами, можно и к матери, в конце концов, рассказать и попросить прощенья, что скрывала. Можно отдельно снять там жильё себе, в этом Коврове, там это копейки, заработков от переводов с венгерского и французского должно хватать, галстучки ее вязаные и браслетики пересылать в Москву девчонкам или передавать с поездом, а заказы получать через ту же Сёмину, даже выгоднее получится жить в Коврове, и ничего ужасного, не с тем ещё люди справляются».
«Могу, могу», – сказала она вслух. Но дело в том, что она не одна. Не одна, слава богу. Он боялся, что она уедет к матери. Серёжа оказался понимающим и чувствительным человеком.
Она гуляла по пустым улицам пустой деревни, по деревенским прогонам с выкатившимися из-под заборов яблоками, и думала о доставшей уже тошноте, физическом неудобстве, не очень-то счастливом Сергее, но более всего о насущном: надвигающейся зиме, родах, Светлане, деньгах, детских вещах и целой куче подобного. В отношениях с ним она, конечно, была немного неосмотрительна, эта безоглядность, когда мозги отшибает, у неё с детских лет, но с Серёжей счастливо всё получилось. Они нашли друг друга, это очевидно по всему, совпадающему даже в мелочах, по чувствам, по их отношениям друг к другу и по близости, это уж вообще что-то не представимое раньше. В прошлом году она испугалась и практически сбежала от него, уехав раньше, чем обещала, и это оказалось правильно. Потом, в Москве, Сергей стал на пару месяцев героем её внутреннего, придуманного романа, параллельного с реальными отношениями с преданным Антоном. Учёба на втором курсе оказалась тяжелой, отсутствие свободного времени и усталость подмяли и сделали малозначащим всё, даже расставание с Антоном прошло не сложнее, чем какой-нибудь зачёт. Но в этом году чувство уже диктовало и отношений было просто невозможно избежать: её восхищали его ловкость, энергия, умение справиться с проблемами и ещё его какая-то нежная точность в поцелуях, движениях рук и ласках. А раз так, значит, судьба. А раз судьба, то ничего не страшно. Ещё всё впереди и всё будет: и Будапешт, и Париж, и Серёжина Австралия с его райскими птицами – ребёнок не может быть помехой, уже через полгода можно будет ездить всем вместе. Она всегда находила правильное решение, когда не суетилась, не дёргалась и не впадала в меланхолию. «Меня двое, – улыбнувшись, сказала она самой себе, – значит, ко мне в небесах двойное внимание». Ничего плохого она не хочет, всё сложится само собой. Сергей находится в сложнейшем положении – мы оба в положении – и нам обоим нужно время. Женя села на лавку у крайнего дома. Впереди зима, придётся съездить в консультацию и заранее всё обговорить, а потом перестраховаться и в конце февраля лечь в больницу. Он правильно настоял, чтобы она переехала к ним в дом – это был самый сумасшедший вариант – он легко договорился со Светланой, потому что половина дома по закону его, а она на самом деле в основе своей очень человечная. Если они уже давно не как муж с женой, значит, я ничего ни у кого не отнимаю и на чужое не покушаюсь. Очень странно, конечно, получилось: такая деревенская коммуналка с бывшей женой, раньше так жили и ничего, все были живы-здоровы, если поцапались – то сразу помирились.
Она встала и пошла дальше, в поле, за деревню. Разве люди должны, как зверьё какое-то, рычать и охранять свою пещеру? Никто никого не съест. Ни мне, ни Сергею ничего не надо, всего на одну зиму, к лету, уже втроём, переберёмся в город, а сейчас три нормальных взрослых человека, уж, наверное, смогут прожить по-человечески одну зиму не в голоде и холоде, а в нормальных условиях. Она заметила, что опять ускорила шаг, и опять сдержалась и пошла ровнее. Была одна неловкость: момент близких отношений. Это могло задевать, потому что неравноправно, могло всё испортить. Светлана старше и может переживать, нервы у неё никуда, особенно если тот случай с Бруно вспомнить, вообще шокирующий. Женя вышла к реке. Отсюда, с высокого берега, как с балкона театра, видна была вся глубина раскрытой сцены: на той стороне тёмно-синей реки открывалась широкая полоса бледной сухой травы и, будто какой-то широченный клоун, выступивший из-за распахнутого задника на огромную академическую сцену, приплясывал на ветру разряженный в пестрые лоскуты лес. Над верхушками деревьев вдали возвышалась вышка с прожектором, вспыхивавшим иногда на секунду и достававшим лучом до низких облаков. Разглядывая жёлтую, в красных и зеленых пятнах, лесную рубаху, отчаянно весёлую под измождённым небом, Женя удивленно покачала головой и засмеялась: отказаться от близости – это было правильное решение, испытание, кстати, небольшое, но какое-то прекрасное, надо намекнуть, чтоб Светлана поняла. И ещё раз поблагодарить. Пусть Светлана знает, что она считает это большой помощью. Главное, все хлопоты, деньги, работу по дому продолжать делить, хоть это уже и тяжеловато…
Дом, устроенный Корецкими в Поречье, долго обижал деревенских жителей своими вызывающими размерами и барским устройством, как прихоть, вызов и дурь двух богатых городских неженок, которых просто некому тут было приструнить. Корецкие очень хорошо понимали угрозу, которая возникала из такого отношения, поэтому приплачивали бабе Шуре за надзор и разведку, но всё равно не избежали переброшенных через забор дохлых кошек, тухлого мусора и двух попыток поджога. Только лет через десять подобные дома стали появляться и в других деревнях, и жителям стало ясно, что ничего в этом нет особенного – дом как дом, большой, удобный – и всё. Для Сергея и Светланы это было их дитя, плод раздумий, трудов и любви, об устройстве которого они могли рассказывать часами. Дитя это строилось полтора года, и если бы это была прежняя деревня, то их сторонились бы до могилы, а на крыльцо к ним не входили бы никогда, и это притом, что Светлана была отсюда родом и знала тут буквально каждого. Но как-то раз, когда Светлана заболела, баба Шура приковыляла с кульком грудного сбора, заварила его и села вместе с ними пить чай – с тех пор деревенские старухи стали принимать от них попечение и зимнее продуктовое содействие. Сергей со временем стал зарабатывать намного больше, хозяйство у Светланы стало на ноги – жизнь наладилась.
Эту девушку, Женю, Сергей увидел три года назад, когда она летом приехала в Поречье в дом своей матери на свои первые студенческие каникулы. Худенькая и черноволосая, она была не из русской жизни: помимо графичной красоты, она не так, как все, говорила, держалась, одевалась и молчала. Потом приехала зимой с друзьями-студентами, пришла к ним в дом и попросила помощи с электричеством. Он пошёл и увидел в старом доме, где собралась провести несколько дней и ночей студенческая компания, просевшие двери, разбитое окно и здоровенные щели. За день аврала, работая вместе с двумя парнями и тремя девушками, он помог им создать хоть какие-то условия. Денег не взял, во время работы присматривался и прислушивался к разговорам этой несимметричной компании, манерам, словечкам и шуточкам, и ему показалось, что у неё нет отношений ни с кем из этих парней. Тогда он очень обрадовался, а потом это оказалось не так. Прошлым летом начались их встречи и поцелуи, но только один раз, у реки, тёплым летним вечером, уже скорее ночью, он помнил, что луна тогда была желтая, как светофор, почти всё уже случилось, но она вдруг стала твердить: «Не надо, не надо, прошу тебя», а через день исчезла, уехала. Этим летом он её ждал, понял ещё в прошлое лето, что будет ждать, и, как приехала, влюбился в неё просто с размаху, в тот момент, когда вновь увидел её на улице повзрослевшую. Отношения возобновились сами собой и сразу стали близкими. Близость ничего не изменила, что тоже было для него удивительно: чувство не остывало, всё время казалось, будто она где-то тут рядом, только на минуту отошла. Понял с ней, что такое «ненаглядная»: лицо и руки, глаза и грудь, колени и вообще все. Смеясь, говорил, что особенно сильно любит её левое ухо, совал туда нос и прикусывал мочку, хотя сам-то думал, что смеяться тут нечему: ухо было замечательно красивое. Но четырнадцать лет разницы, огромный разрыв. И ещё Света, жена и дорогой человек с героическим характером и трагическим жанром внутри, застрявшим со времён брошенной сценической карьеры. Уехал как-то по вызову и там, два дня колотя молотком по терпеливому железу, решил, что надо заканчивать этот тайный подростковый роман. Вернулся и не подходил, общался мимолётом – и так три дня, и всё время смотрел издалека, из мужской курящей компании. Потом сам пошёл к ней, сказал, что так не может, вообще без неё не может, довел до истерики и предложил быть вместе навсегда, потому что, когда они наедине, без всех, им очевидно: они пара и созданы друг для друга. Ещё через месяц она сказала: я беременна. Он ахнул и ужасно растерялся, потому что они не говорили ни о чём таком, да и вообще всегда за меры предосторожности отвечала любая, самая безалаберная деревенская девица, они с детства хорошо понимали последствия и разбиралась каждая сама со своим телом – это была норма. И ещё он всегда был уверен, что это из-за него у них со Светланой нет детей, как не было их с другими женщинами. Беременность могла всё сломать и поставить вверх дном, его неприятно поразило, что у Жени не возникало ни опасений, ни серьёзных вопросов в этой тяжелой ситуации, будто они давно в браке и воплотили общее намерение. Он мучился, выбор был жестокий, но прикидывая последствия такого или эдакого выбора, в конце концов решил, что чувства – это главное, всё остальное придётся выправлять. Про ребенка как-то не думалось, может, потому что живот у Жени был ещё маленький и фантазировать о будущем не было оснований. Конспирацию они, конечно, соблюдали, но в меру: искреннее чувство не позволяло унижаться до каких-то особенных пряток. Деревня понемногу стала что-то подозревать, но, поскольку ни скандала, ни мордобоя не ожидалось, история была малоинтересной, да и время-то уже было – август, раз-два – и по городским квартирам.
…Октябрь состоял из нелепых положений, извинений и попаданий впросак. То её тошнило, то тянуло в сон, то она физически не могла сделать то, что говорила ей Светлана, капитан сложного деревенского быта, умная и опытная хозяйка, вкусно готовившая и ловко распределявшая по дню, по неделе и году дела и силы. Женя чувствовала себя глупой и неповоротливой: ни её старание, ни деньги, которые она настояла, чтоб принимались в равной доле – ничто не спасало от ощущения себя приживалкой и нахлебницей. Приходилось бесконечно извиняться и тупо шутить над своею неловкостью, но смеялся только Сергей. К ноябрю Женя немного привыкла к этому дому и заведённым в нём правилам, к тому, как тяжело открываются окна и хлопают от сквозняка двери, где здесь висят ключи и от чего выбивает предохранители, куда девать мусор, как сушится и гладится бельё, где хранятся чистая посуда, обувь, лекарства и туалетная бумага, как располагаются продукты в холодильнике и кладовой, и сковороды на крючьях, запомнила в какие часы Светлана кормит птицу и работает во дворе. Когда можно полежать в своей комнате. Какие доски скрипят и какая трава сушится на чердаке, и еще сотню важных мелочей большого домашнего хозяйства. Она оценила разумное и продуманное до мелочей устройство жизни этого дома, его невозможный для неё порядок. И поняла за это время, что с дружбой не получается и никогда не получится. Светлане всё время приходилось преодолевать себя. Проблема была даже с тем, чтобы поздороваться утром или просто напомнить, что нужно сделать по дому. Не показывая своего, часто мучительного, состояния, Женя пыталась делать как можно больше и демонстрировать подчёркнуто дружеское к Светлане и прохладное к Сергею, отношение, но видела, что ту раздражает даже это. При том, что невозможно было не заметить её стараний и некоторых успехов в домашних делах, она поняла, что дело не в том, как она моет посуду, накрывает на стол и развешивает бельё. И даже не в ревности и не в зависти к тому, что у них с Сергеем будет ребёнок. Она догадалась, что дело в будущей жизни Светланы, остающейся одной в этом прекрасном огромном деревенском доме. И почувствовала отвратительный краешек своей собственной вины в этой горькой жизненной перспективе. «Боже, боже, – думала она, – протянуть ещё хотя бы декабрь – январь…»
И вдруг перед Рождеством, когда они все вместе, втроём, после ужина выпили вина и заговорили вдруг о всякой ерунде: зловредной погоде, премудростях зимнего хозяйства и планах на Новый год – возник удивительно дружеский тон общения. Может, Свету тронул рассказ о её заработках рукоделием и переводами, а может, её уже обозначившийся живот и ежедневная тошнота. Ёлку поставили двадцать девятого: Сергей притащил огромную красавицу, еле втащил её в дом, и она как своя встала в гостиной и упёрлась в высокий потолок. Украшений на такую верзилу совершенно не хватало, и Женя из цветной бумаги и картона вырезала фонарики и смешные фигурки, склеила звезду для верхушки и навертела кукол из лоскутов и тряпочек. В ночь с тридцатого на тридцать первое тихонько вышла из комнаты, осторожно залезла на большой табурет и стала развешивать украшения, куда смогла достать. И вдруг услышала вскрики со стороны Светланиной комнаты на втором этаже. Она в ужасе замерла на табурете, подумала: господи, ей плохо, спазмы или приступ – и тут же поняла, в чём дело. Еле сползла с табурета и, сжавшись комочком, добралась до своей комнаты. Рыдала в подушку, а когда переставала, её била дрожь и тоска была смертная. Утром, когда болезненно, прямо в область печени первый раз ударил ребёнок, она охнула, прислушалась к себе и поняла сигнал: «Хватит рыдать, подумай немного и обо мне» – и тут её осенила единственная причина, по которой это могло произойти и ей стало легче. Утром тридцать первого она не вышла, через дверь сказала Сергею, что плохо себя чувствует, чтоб повесил звезду, а она выйдет к вечеру. Думала теперь, что хорошее настроение Светланы перед Рождеством могло быть вызвано тем же, что она слышала, и как такая, чисто формальная, измена удивительно ранит человека, и такая рана помогает, на самом деле, отделять настоящее чувство от обиды и ревности. Вечером вышла как ни в чем не бывало, Сергей и Светлана обрадовались искренно, она видела это. Стол был уже накрыт и телевизор вещал что-то пышно-глупое. Последние приготовления – и они подняли бокалы за уходящий старый год. Светлана и Сергей, у которых под коноплю, как и у многих деревенских, в огороде был отведен приличный кусок, покурили травки и весело шутили о делах, друзьях, скором приезде Никитиных и о детском далёком прошлом, а Женя, после такой ночи опьянела от единственного бокала шампанского и хохотала от любой мелочи. Сергей играл на гитаре, и они пели вместе со Светланой – у той оказался сильный высокий голос. Разошлись по комнатам уже в четвертом часу. Женя, разбитая и измученная, все равно ночью просыпалась и прислушивалась, выходила в туалет и опять слушала: не будет ли прежних ужасных звуков, но было тихо… А через два дня в отношениях со Светланой всё вернулось к прежнему. Женя страдала, что напрасными оказались жертвы, понесённые Сергеем ради будущего ребенка.