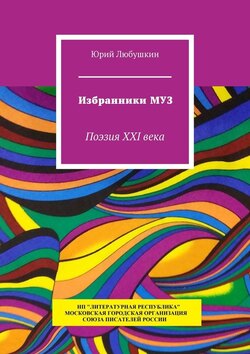Читать книгу Избранники Муз. Поэзия XXI века - Юрий Любушкин - Страница 4
СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Приласкаю я рукой счастье светлых лет…
Оглавление«Ах, Рассея, моя Рассея…»
С. А. Есенин бесспорно стоит в одном ряду с корифеями русской поэзии: Пушкиным и Лермонтовым, Некрасовым и Тютчевым, Блоком и Гумилёвым.
Почему? Ответ прост и понятен каждому русскому человеку: его стихи – это сама душа и само сердце России. И потому-то, наверное, его стихи особо музыкальны, как ничьи другие, лиричны и проникновенны. Да и вряд ли кто-либо будет спорить об этом. Время всё расставило по своим местам… Где те (да и вряд ли кто уже их помнит), кто без стыда и зазрения совести возводил хулу на самого Поэта и его произведения? Где они, кто пытался, да не получилось, спихнуть его грубо и нагло с Поэтического Олимпа ещё при жизни. Ничегошеньки-то у них не вышло. Есенин был, есть и остаётся лучшим среди лучших золотого века русской словесности, смело и без оглядки шагнув в век двадцать первый, —
«Я буду воспевать всем существом поэта
Шестую часть земли, с названьем кратким – Русь…»
Лучше, по-моему, и не скажешь…
При жизни, как большой русский талант, Есенин явно не вписывался в тот образ и в ту когорту рифмоплётов, а проще говоря окололитературных бездарей и проходимцев всех мастей, который стала диктовать новая жизнь и новые порядки. Да и сама эпоха революционных потрясений и гражданской смуты – не время для лирики, будь она хоть трижды талантливая, как у Сергея Есенина. Увы и ах, иные времена, иные нравы…
То, что позже вменялось ему РАППом (а понимайте как врагами и завистниками), как философия упадничества и воспевание отсталой деревенской жизни, по сути своей оказалось (да и бесспорно было всегда, именно всегда) глубочайшим лиризмом и тонкой проникновенной любовью к Малой своей Родине, дороже которой для Есенина ничего не было и быть не могло. Да и только ненавистники всего русского и православного могли беззастенчиво охаять «Письмо к матери», «Клён, ты, мой опавший», «Отговорила роща золотая» и ещё, и ещё, и ещё… Это как плюнуть в святой колодец, в светлый незамутненный родник, в самую русскую душу. А сколько ещё было таких гадостных плевков – не счесть.
Да и какое сердце надо было иметь и какую несогбенную волю, чтобы всякий раз, подымаясь с колен, с в кровь разбитым лицом – от таких злобных нападок немудрено – написать ещё и «Пугачёва». А как страстно любило сердце Поэта жизнь, чтобы на излёте своего земного пути выдать на гора величайший шедевр русской поэзии, поэму «Анна Снегина», сравнимую лишь с пушкинским «Евгением Онегиным». Потому-то, наверное, так яростно и страстно (уже в другое время и в другую эпоху) В. С. Высоцкий играл на сцене Таганки и самого Есенина и его Хлопушу в бессмертном «Пугачёве». Одна из звёздных ролей знаменитого Барда и Актёра. Сама энергетика русской души от одного Мастера без остатка влилась в творчество другого Мастера, преодолев без усилий время и расстояние. Про таких людей принято говорить «родственные души»… А как результат – Хлопуша в исполнении Владимира Высоцкого – шедевр высочайшей сценической пробы. Непревзойдённый. Как живой памятник на века.
И у Есенина всё будет потом. Потом, спустя десятилетия. Признание и слава, всенародная любовь и многомиллионные издания книг его стихов. И, конечно же, песни и романсы на его стихи. Вот уж воистину талант на века!
Но а при жизни его продолжали терзать: недруги и завистники, РАПП с её системой номенклатурных критиков. Последних проще назвать критиканами или ещё как-нибудь похлеще. Они того заслуживают. Как смехотворны сейчас, с высоты нашего времени, отсюда, из двадцать первого века, их беспощадные нападки на Поэта и обвинение его, в «хулиганстве» и воспевании дна человеческого общества («Москва кабацкая»). Но это сейчас и здесь, а тогда Поэт, даже такой как Сергей Есенин, мог запросто загреметь и в расстрельные списки, несмотря на своё самое что ни на есть крестьянское происхождение. Мог запросто оказаться у роковой черты. Судьба хранила его до поры, до времени. Хранила, чтобы написал ещё, ещё и ещё…
А что касается обоих вышеупомянутых циклов стихов, то это в творчестве Поэта был не более, чем вызов сытому НЭПмановскому обществу, российской действительности после кровавой гражданской смуты. Стихи Поэта безжалостно хлестали по физиономиям тех, кто вновь в своей махровой сытости и материального преуспеяния, «забурел», враз почувствовав себя – «Ого-го-о, смотрите, какие мы крутые! Любуйтесь на нас, фартовых!» – хозяином новой жизни. Разумеется, не только в Москве. К этим скороспелым буржуям у крестьянского Поэта был свой счёт, своё отношение к новоявленным нуворишам, в сущности своей – подлым людишкам, никчёмным хапугам и барышникам. Уж им-то, точно, жизнь российской глубинки с её повседневным крестьянским трудом и непосильными заботами, когда ко всему ещё по стране прокатились без перерыва две губительных войны, так вот им эта жизнь была, мягко выражаясь, безразлична. Наплевать на всех и вся, вот их жизненное кредо.
Ну а уж смолчать-то Есенин не мог. Да и как молчать, когда кругом такое творится. Посему хулиганский цикл стихов Есенина – это дерзкий талантливый эпатаж. Не более. Но какой!..
Этого, конечно же, Есенину не прощали. Отсюда бесконечные стычки и скандалы. А куда же без них. Да и сам Поэт не боялся ни стычек, ни скандалов, ни публичных обвинений в адрес толстосумов. А впрочем, поделом им!.. Ну, естественно, возле Поэта всегда крутилась разношёрстная публика. Это уж как водится. Кому-то были выгодны эти самые скандалы, кто-то, искусно подливая масло в огонь, подталкивал его в пучину страстей. Было? Конечно же, было. Как и были и такие, кому всё это было на руку. Кто купался в ореоле славы Есенина, как в собственной. А на муки и страдания самого Поэта им было наплевать. Да, что о них говорить – прилипалы.
Но было и другое. Не только скандальная слава по Москве. Не только. Ведь на деле (и время лучший тому из судей) и «Москва кабацкая», и хулиганский цикл стихов, по большому счёту, – все та же мятежная русская удаль и бесшабашный размах русской души. И всё это сродни самому Есенину, его трагической и неповторимой судьбе, втянутой в водоворот бешенного бурного потока реки, каковыми были страшные социальные потрясения тех лет в России, растерзанной к тому же жуткой, братоубийственной Гражданской войной. И душа Поэта, не побоюсь такого сравнения, была одной сплошной кровоточащей раной. Ибо муки и страдания русской души, русского человека, были мукой и страданием самого Поэта. Так оно и было. И попросту по-другому быть не могло. Вот оттого-то, и мятежный взрывной дух его стихов, бунтарская стихия, где в каждом слове вызов, как жест отчаяния, всему тому, что сломало мечту о земном крестьянском рае, покорёжило и сгубило в одночасье и судьбу самого Поэта, и судьбу страны. Вот потому-то и зазвучало по-хулигански:
«Мне осталась одна забава —
Пальцы в рот и отчаянный свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист…»
Свист… Это так, по-русски, отчаянно и дерзко, разбойно, как у Стеньки Разина, как всегда велось на Руси-матушке, когда другого уже не дано. Так, наверное, расстаются навсегда, без оглядки с тем, что ушло безвозвратно, сгинуло в пучине кровавого лихолетья. Свист!
И всё же, всё же, всё же… Несмотря на отчаянье и тоску, что корабль жизни в очередной раз выбросило на мель, душа Есенина стремилась в синеву бездонного русского неба, к белым облакам, где промелькнул быстрым росчерком журавлиный клин, растворившись у горизонта, бросив напоследок вместе с печальной песней своей и прощальную слезинку, упавшую к ногам Поэта каплей дождя. Прощай, Сергун, прощай золотая голова!.. Е-ее-сени-ии-н!
И это стремление в синеву бездонного русского неба было полётом его мечты, несмотря ни на что, несмотря на бури и потрясения. Полётом к прекрасному и светлому, полётом наперекор всему. Вот потому-то отсюда, из уголка израненной есенинской души, и родились такие щемящие сердце каждого русского человека и пронзительно-печальные строки бессмертного произведения «Отговорила роща золотая…». И многие, многие поэтические строки рождались отсюда же и взлетали ввысь, ввысь, в синеву, к белоснежным облакам, становясь по какому-то божественному чуду, проведению бессмертными стихами золотого фонда русской поэзии. Но на это чудо был способен только он один. Такое было под силу только ему, Сергею Есенину, и никому другому.
Стихи Сергея Есенина, его поэзия. Стихи, стихи, стихи….
А помните, как звучали одноименные романсы в божественном исполнении грузинских вокалистов из «Арэро»? Или как рвал вашу душу несравненный цыганский маэстро Николай Сличенко, исполняя эти романсы? А уж об их исполнении Людмилой Зыкиной и говорить не приходится… Вспомнили? Без слёз слушать нельзя было. Кто-то, мне, конечно, возразит – было и прошло… Прошло?!
Да нет же, тысячу раз нет! Не прервалась связь времён. И уже в замечательном исполнении Александра Новикова вновь и вновь звучат многие песни на стихи поэта, которые ещё никогда и никем не слагались на музыку. Да и как звучат, дух захватывает! Будто живой – вот он, протяни руку и можно потрогать его – настоящий, а не лубочный Есенин предстал снова перед нами. Живой и такой родной. Наш русский и такой любимый. И в подтверждение тому – целый многочасовой концерт, посвящённый Сергею Есенину. На его стихи и баллады. Да какой концерт! И песни в нём звучали в исполнении не только уральского барда. Здесь вам и Кубанский казачий хор, и хор имени Пятницкого. Эх, знал бы Сергей Александрович: в какое драгоценное ожерелье, составленное из музыкальных исполнителей, лучших в современной России, будут включены его стихи!
Но, пожалуй, знал… Наверняка знал, глядя на нас. Оттуда, с синевы небес, что своим лучистым светом ласкает русские берёзы. Берёзы, которым столько души отдал Есенин в своей лирике. Как никто другой. Такое было под силу только ему, Сергею Есенину. И никому другому. Тут уж не поспоришь.
…И снова, как в примере с Владимиром Высоцким, родственное слияние душ – стихи Сергея Есенина, положенные на музыку Александра Новикова. А впрочем, иначе быть не может. Да и кто бы спорил: в русской литературе Есенин – не сиюминутное новомодное явление. Промелькнул, и нет его. Отнюдь. Есенин, не побоюсь этого слова, целый пласт национальной жизни страны, народа, истории. Всё его творчество – навсегда. На века. Оно неразделимо с жизнью России. С самим понятием святость, русскость, самобытность, национальный приоритет и самим определением – великая русская культура. И так было, есть и будет пока жива русская душа, пока жива Россия.
Есенин… Ведь только великий поэт мог говорить, что в России он после Пушкина первый Поэт. Говорил? Конечно же, говорил. Тут не было ни тени иронии или лукавства со стороны самого Есенина. Тем более эти слова не были брошены свысока, мимоходом. Сказано было с осознанием равного равному. И не более. И без претензий на свою исключительность в русской поэзии. А вот, кривотолков, по этому поводу было пруд пруди: «Ишь ты, выискался какой…». Шипели, судачили по углам: «Нашёлся тут, гляди-ка…». И ещё более злобно и презрительно: «Деревня!…» Что-что, а злопыхателей на его коротком веку было хоть отбавляй… Хватало…
Есенин… И что бы там не говорили, в какие бы лубочные рамки не пытались втиснуть, как самого Поэта, так и его стихи, – всё сдул ветер истории, всё наносное, прилипшее к нему, все наветы и наговоры лжедрузей – прилипал. Осталось то, чему быть вечностью: да Есенин, да русский Поэт. Поэт, волею Божьей, с самой что ни на есть заглавной буквы. И ведь только ему самому было дозволено обратиться к бронзовому изваянию Солнца русской поэзии с озорными словами:
«О, Александр, ты был повеса,
Как я когда-то хулиган!..»
Мол так-то, милый Александр Сергеевич, знай наших, рязанских, деревенских! Знай, мы таковские, исконно русские, рязанские, с забубённой головушкой. Эх-ма-аа!… Э-ээ-х!… И нипочём нам беды, нипочём! Злата-серебра не надо. Нет, не нужны они. И в раю не бывать мне, грешному. Нет, не бывать. Да какой там рай:
«Я скажу – не надо рая,
Дайте Родину мою!..»
А то, что говорят про меня, Александр Сергеевич, и слухами полнится про мои скандальные похождения не только Москва-матушка, а и вся страна, – так это всё чепуха. Вздор. Небылица. Хотя, конечно, и обидно. Но главное в жизни, – чтобы душа пела. И пусть многие в своей злобе исходят и всё подножки мне, деревенскому мужику, норовят подставить, душа-то моя поёт. Поёт! Поёт о любимой моей Рассеи. Так, наверное, признавался сам Есенин, когда обращался в Летнем Саду Царского Села к памятнику Пушкина. Наверное, так и было. Чтобы душа пела… И все же, наперекор всему, душа Поэта пела…
И везде, везде, во всех стихах, через всё творчество Поэта проходит красной нитью любовь к русскому человеку, Родине своей любимой, к горькой своей ненаглядной земле. В каждой строчке его стихов чувствуется невыплаканная боль и страдание. И покаяние самого Поэта:
«Положите меня в красной рубашке
Под иконами умирать…»
И, наверное, одному господу Богу было ведомо, какие муки терзали Поэта за будущее своей многострадальной великой Родины, его России, «Рассеи», как любил её называть сам Есенин.
«Ты Рассея, моя Рассея,
Чтоб подумать хоть миг об ином…»
07.07.2010