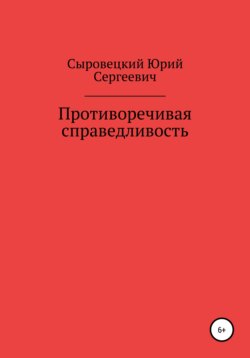Читать книгу Противоречивая справедливость - Юрий Сергеевич Сыровецкий - Страница 15
I. Насколько неизбежны были революции 1917 года для становления справедливого государственного устройства России
3. Первая мировая война как определяющее условие жизнедеятельности Российской империи в преддверии революций
В) Развитие политических процессов в воюющей России
ОглавлениеАвтор при рассмотрении этого вопроса будет опираться преимущественно на работу Е. Ю. Спицына – Российская империя XVIII – начала ХХ вв. Полный курс истории России, гл. 3: Российская империя на рубеже XIX-ХХ вв., тема 6: Россия в годы Первой Мировой войны (август 1914 – февраль 1917 г.) Концептуал, 2019.
Сразу после начала войны в стране зримо обозначились политические силы, занявшие диаметрально противоположные позиции по отношению к ней. По мнению Е. Ю. Спицына, однозначно патриотических позиций придерживались все национально-монархические партии, октябристы, прогрессисты, кадеты и другие влиятельные политические силы. Они приняли активное участие в разработке стратегических целей войны. В частности, в 1915 г. кадеты выпустили два сборника статей – «Вопросы мировой войны» и «Чего ждет Россия от войны» в которых была заявлена программа российских территориальных приобретений, предусматривавшая: 1) присоединение к Российской империи исконных русских территорий – Галиции, Угорской Руси и Буковины; 2) ликвидацию Восточной Пруссии, которая традиционно являлась очагом германской агрессии против славянских народов и государств, и включение ее территории в состав Российской империи; 3) установление полного контроля над черноморскими проливами и прилегающими к ним территориями, включая столицу Византийской империи Константинополь (Стамбул); 4) ликвидация Австрийской империи и создание на Балканах мощного союзного Югославянского государства (Е. Ю. Спицын. Российская империя XVIII – начала ХХ вв. Полный курс истории России. Концептуал, 2019, с. 441–442).
В целом данная программа представляется правильной и действительно отвечавшей национальным интересам России. Такой вывод подтверждается тем фактом, что в 1945 году эту программу, за исключением пункта «3», практически реализовал Советский Союз под руководством И. В. Сталина (п. 3 он тоже пытался осуществить, но у него не получилось), но в то время она, на взгляд автора, напрочь была оторвана от реального положения дел в мире и в самой России, описанных в настоящей работе выше. Данная программа не только не учитывала фактических военно-экономических возможностей противника, но и не соотносила свои положения с замыслами значительно более мощных в экономическом и политическом смысле российских союзников по Антанте, а также с социально-политической и экономической обстановкой в самой Российской империи.
Совершенно иную, однозначно враждебную интересам правящих кругов России позицию заняли лидеры большинства социалистических партий, прежде всего, большевики. Уже в сентябре 1914 г. В. И. Ленин откровенно заявил, что поражение Российской империи, т. е. правящей имперской бюрократии, в этой империалистической войне, развязанной в интересах мирового капитала, станет благом для русского народа (В. И. Ленин В.И. ПСС. Т. 26. Задачи революционной социал-демократии в европейской войне). А уже в ноябре 1914 г. лидер российских большевиков выдвинул свой знаменитый лозунг «превращения войны империалистической в войну гражданскую» (В. И. Ленин. Манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Российский государственный архив социально-политической истории Ф. 2. Оп. 1. Д. 3400. Л. 1-18). В данном случае В. И. Ленин ни на йоту не отошел от решений Штутгардского и Базельского конгрессов II Интернационала, состоявшихся еще в 1907 и 1912 гг. А подавляющая часть социалистических партий всех воюющих держав как раз отреклась от идей Штутгардской резолюции и Базельского манифеста, и встала на позиции поддержки собственных правительств с отказом от революционной борьбы.
Единственным лидером русских социалистов, который не стал ставить «классовые предрассудки» выше национальных интересов Отечества, стал Г. В. Плеханов, который поддержал русское правительство в этой войне. Хотя в целом он разделял абсолютно здравую мысль большевиков о том, что по своей сути эта мировая бойня велась не в интересах самих народов воюющих держав, а в интересах национально-олигархических кланов, стоящих у кормила власти и жаждущих нового политического передела мира (Е. Ю. Спицын. Российская империя XVIII – начала ХХ вв. Полный курс истории России. Концептуал, 2019, с. 441–442).
Трагическая череда поражений русской армии на фронте летом 1915 г. резко обострила политическую обстановку в стране. В июне были сняты с постов министр внутренних дел – Н. А. Маклаков, военный министр – В. А. Сухомлинов (его заменил близкий к кадетско-октябристским кругам А. А. Поливанов), министр юстиции – И. Г. Щегловитов, обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер и другие влиятельные персоны. Это говорило о том, что верховная власть начала сдавать свои позиции думскому (масонскому) большинству (Там же, с. 445).
6 августа на Всероссийском съезде Военно-промышленных комитетов руководителями Центрального ВПК избрали двух самых непримиримых противников николаевского режима – лидера думских октябристов масона А. И. Гучкова (считавшего царскую власть «режимом фаворитов, кудесников и шутов») и лидера думских прогрессистов А. И. Коновалова (патронировавшего видных депутатов социалистов и трудовиков, в том числе, А. Ф. Керенского и М. И. Скобелева).
Созданный в Госдуме межпартийный прогрессивный блок под руководством П. Н. Милюкова, С. И. Шидловского и В. В. Шульгина в либеральной газете «Утро России» (издатель П. Рябушинский) 26 августа опубликовал список «Правительства народного доверия – Комитета Обороны», состав которого выглядел следующим образом: премьер-министр – А. Гучков, министр иностранных дел – П. Милюков, военный министр – А. Поливанов, министр финансов – А. Шингарев, министр промышленности и торговли – А. Коновалов, министр юстиции – В. Маклаков и др. Таким образом, либеральная (масонская) оппозиция и влиятельные промышленно-финансовые круги страны уже открыто предъявили претензии на высшую государственную власть и прямо указали царскому кабинету на его неспособность управлять страной в условиях войны (Там же, с. 445–446).
Однако император при формировании правительства опирался на иных советчиков. Как считает Е. Ю. Спицын, по мнению многих советских и современных историков (В. Касвинов, А. Аврех, М. Флоринский, Ф. Гайда), именно в этот период императрица вкупе с Г. Е. Распутиным (крестьянином села Покровское Тобольской губернии, приобрёвшим всемирную известность благодаря тому, что имел репутацию «царского друга», «старца», прозорливца и целителя) и другими членами дворцовой камарильи фактически взяли всю верховную власть в свои руки, тасуя министров и руководителей центральных ведомств по своему личному усмотрению. Более того, ряд современных питерских историков (С. Лебедев, И. Лукоянов) в своей совместной работе «Российская империя и Великая война (1914–1918)» прямо заявили о том, что последние два года, вплоть до гибели Г. Е. Распутина, реальная власть в Петрограде попеременно находилась в руках трех конкретных группировок: Первого «триумвирата» в составе А. Н. Хвостова (камергер Высочайшего двора, тайный советник, Вологодский и Нижегородский губернатор, министр внутренних дел Российской империи в 1915–1916 годах) – С. П. Белецкого (российский государственный деятель, сенатор) – М. М. Андроникова (по отцу – грузинский князь, по матери принадлежавший к балтийскому баронскому роду Унгернов-Штернбергов, являлся чиновником при Министерстве внутренних дел (1897–1914) и «одним из главных агентов Распутина»), Второго «триумвирата» в составе митрополита Питирима (П. В. Окнова) – Б. В. Штюрмера (с 20 января по 10 ноября 1916 года был председателем Совета министров, одновременно, до 7 июля того же года, был министром внутренних дел, а затем министром иностранных дел. Действительный статский советник, обер-камергер Двора) – И. Ф. Манасевича-Мануйлова (Деятель российских спецслужб, журналист, агент охранного отделения, чиновник особых поручений Департамента полиции, надворный советник) и Третьего «триумвирата» в составе Г. Е. Распутина – П. А. Бадмаева (врач тибетской медицины, первым перевел на русский язык трактат «Чжуд-Ши»; крестник императора Александра III; лечил членов семьи Николая II и Григория Распутина; убеждал российских императоров включить в состав России Тибет, Монголию и Китай) – А. Д. Протопопова (крупный помещик и промышленник, член Государственной думы от Симбирской губернии, последний министр внутренних дел Российской империи). Причем, по мнению тех же историков, все три «триумвирата», несмотря на постоянную «мышиную возню» и борьбу всех против всех, лично контролировались императрицей через двух наиболее влиятельных и доверенных лиц в ее окружении – самого Г. Е. Распутина и ее давней подруги императорской фрейлины А. А. Вырубовой. Правительство периода 1915–1916 гг. его современники остроумно окрестили «кувырк-коллегией». (Там же, с. 446–447).
Таким образом, де-факто Николай II практически потерял какую-либо способность к самостоятельному принятию решений, и в этих условиях часть членов Прогрессивного блока – А. И. Гучков, Н. В. Некрасов и А. М. Крымов занялись разработкой плана военного переворота и свержения Николая II. (Там же, с. 447).
В апреле-июне 1916 г. состоялся официальный визит влиятельных депутатов Госдумы в страны Западной Европы. В ходе этого визита глава парламентской делегации П. Милюков был принят монархами Англии, Швеции и Норвегии, президентом Франции, британским и французским премьер-министрами, а также тайно встречался с главами французского и британского кланов Эдмоном и Чарльзом Ротшильдами и Джейкобом Шиффом.
Сразу после завершения этого визита в Париже по инициативе премьер-министра Франции А. Бриана 14–17 июня 1916 г. состоялась Международная экономическая конференция, сыгравшая существенную роль в дальнейшей судьбе императорской России. На ней обсуждались вопросы послевоенного международного сотрудничества стран-победительниц, прежде всего, с Германией. Глава британского правительства Г. Асквит в своем выступлении на конференции заявил (а потом и потребовал), что всем державам Антанты необходимо готовиться к предельно жесткой экономической борьбе, которая будет развязана Германией после окончания войны, невзирая на ее исход. Но Германия в течение не одного десятка последних лет была ведущим внешнеторговым партнером императорской России. В связи с этим российская делегация, возглавляемая тогдашним контролером, будущим главой российского М. Да Н. Н. Покровским отвергла горячее желание британского правительства и английских деловых кругов, сохранением тотальной торговой блокады, удушить Германию и свести ее до уровня второстепенной европейской страны. Именно этот отказ, на взгляд ряда современных авторов (А. Пыжиков, А. Фурсов) и дал старт активному участию британского, а попутно и французского послов в России – Д. Бьюкенена и М. Палеолога в подготовке и осуществлении дворцового переворота в феврале-марте 1917 г. (Там же, с. 451–452).
К недовольству российской элиты царем прибавилось негативное отношение к премьер-министру Б. В. Штюрмеру и царице, которых лидеры думской оппозиции П. Н. Милюков, С. И. Шидловский и А. Ф. Керенский обвинили в государственной измене и ведении сепаратных переговоров с Германией. В последующем эти подозрения не подтвердились, но Б. В. Штюрмер был отправлен в отставку.
Ситуация в столице накалилась до предела. Недовольство николаевским режимом открыто стали проявлять все политические силы, в том числе ярые монархисты. Именно в их среде в конце ноября 1916 г. созрел план физического устранения Г. Распутина. Убийство совершили 16 декабря великий князь Дмитрий Павлович, князь Ф. Юсупов и В. Пуришкевич в Юсуповском дворце на Мойке. По мнению ряда современных британских исследователей (Е. Барбан), активное участие в подготовке и реализации этого убийства приняли три офицера британской разведки – О. Рейнер, С. Алей и Дж. Скэйл, а сам приказ об устранении Г. Распутина был отдан главой британской разведки МИ-6 М. Смитом-Каммингом.
Смерть Г. Распутина ускорила развязку по завершению царствования династии Романовых. План военного переворота, вызревавший в недрах Прогрессивного блока, стал обретать конкретные очертания. В замыслы предстоящей операции был посвящен и высший генералитет русской армии, в том числе, генералы В. А. Алексеев, Н. В. Рузский, адмирал А. И. Непеин и др. По последним исследованиям (В. С. Брачова и О. А. Платонова) было доказано, в детальной разработке плана свержения монархии в России принимали специалисты и в ряде европейских государств, прежде всего, в Лондоне, куда еще в апреле-мае 1916 г. (в том числе, и в составе парламентской делегации) по настоятельному приглашению английского посла Дж. Бьюкенена выезжали для «консультаций» компания прогрессистов в составе П. Н. Милюкова, А. Д. Протопопова, А. И. Шингарева, И. В. Гурко, Г. Ф. Розена и др. (Там же, с. 452–453).
В середине февраля 1917 г. в Петрограде сложилась крайне острая ситуация с продовольствием. В многочисленных очередях за хлебом начались стихийные акции протеста, грабежи и столкновения с полицией.
Император Николай II 22 февраля 1917 г. выехал в Ставку, в Могилев…
Российская империя неуклонно приближалась к своей Февральской революции, которая должна была стать первым шагом на противоречивом пути обретения справедливости.
Роль большевиков в протестном движении периода 1914 начала 1917 года в нашей истории была явно преувеличена. Советские идеологи тем самым стремились показать их большой вклад в рост революционных настроений в рабочей и солдатско-матроской среде. Монархисты же и другие противники Советской власти (в том числе и современные) подчеркивали необоснованно большое разрушительное значение большевиков в разложении армии, флота и государства в целом, стремясь очернить их как можно больше, прикрывая этим порочность и бездарность царской власти. Фактически большевики к началу Февральской революции пока еще были не «при делах», хотя их влияние на российские революционные процессы несколько и возросло, но условия для последующего выхода большевиков на широкую политическую арену были созданы, и в первую очередь государственной системой имперского управления Россией.
А что представляли собой православие и русская православная церковь как идеологическая опора Российской империи? В какой мере она являлась скрепой царской власти, особенно в последний период существования империи, и служила ли она интересам русского народа, установлению справедливости в стране?