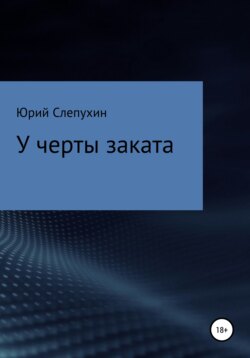Читать книгу У черты заката - Юрий Слепухин - Страница 1
Часть первая
Мы живем в двадцатом столетии
1
ОглавлениеПоследний посетитель ушел в четверть десятого; с полчаса салон пустовал, потом появилась молодая пара. Не задерживаясь, они торопливо прошлись вдоль развешанных по стенам холстов и направились к выходу, негромко болтая и пересмеиваясь.
Человек, сидящий на диванчике в углу салона, поднял голову и устало прищурился вслед ушедшим. На больших часах над выходом обе стрелки сошлись на десяти. Да, посетителей больше не будет.
Служитель в серой ливрее вышел из боковой двери и начал выключать софиты. Человек медленно поднялся с дивана. Конечно, не надо было связываться с этой затеей. На деньги, которые уплачены за помещение, он вполне мог бы прожить пару месяцев, если не больше. А теперь? Впрочем, не исключена еще возможность, что завтра что-нибудь купят. Маклеры обычно покупают в последний день выставки, когда художник более сговорчив. Хотя и это маловероятно.
Развешанные вокруг картины – его собственные картины, которые никто не хочет покупать, – вызывали жалость и отвращение. Опустив голову, чтоб их не видеть, он медленно побрел к выходу.
Человек стоял на углу, сцепив за спиной пальцы, и попыхивал трубкой, морщась от горечи дешевого табака. Сотни автомобилей катились мимо непрерывным сверкающим потоком, в глазах рябило от разноцветных вспышек рекламного электричества, из соседнего бара доносились обрывки танцевальной музыки. Шумливая южная толпа, праздная и беззаботная в этот субботний вечер, теснилась вокруг, и в этой толпе он был одинок – словно отделенный от всех невидимой, но непроницаемой стеной. Да хоть застрелись он сейчас здесь – в самом центре Буэнос-Айреса, на углу Флориды и Коррьентес, – его смерть никого не заинтересует, разве что какого-нибудь безработного репортера…
Трубка погасла, он выколотил ее о каблук и принялся снова набивать табачной трухой со дна кисета. Декабрьская ночь была душной, стены домов и рифленые плитки тротуара щедро отдавали накопленный за день зной. Все казалось бредовым – и эта жара за две недели до Нового года, и воткнутая в черное небо белая, словно раскаленная прожекторной подсветкой, огромная игла Обелиска, и – главное – то, что он сам, Жерар Бюиссонье, стоит сейчас здесь, на этой опутанной неоновым серпантином улице, за тысячи миль от ближайшего французского порта.
Франция, Париж… Облетевшие каштаны и острые шиферные крыши, лабиринт узких горбатых переулков Монмартра, гул зимнего ветра в мостовых пролетах, медленное движение барж, тысячелетние камни и воздух, этот неповторимый воздух Парижа… Зачем только он оттуда уехал, зачем отправился искать признания на чужбине? Как можно было думать, что тебя поймут и оценят чужеземцы – после того, как не поняли соотечественники…
– Что ж, не ты первый, не ты последний, – пробормотал он вслух, зажигая спичку. – Утешайся хоть этим…
Человек стоял, сутуло опустив плечи, в понурой позе усталого мастерового. Но это не была радостная усталость после работы, и она пришла не сегодня и не вчера; уже несколько месяцев, ложась ли спать, просыпаясь ли, он чувствовал себя одинаково усталым – хронически усталым от этой собачьей жизни, от вечного безденежья, от несокрушимого равнодушия публики. И от сомнений, бороться с которыми становится все труднее.
Мы живем в первое десятилетие атомной эры, на переломе самого грозного века человеческой истории. Пятьдесят миллионов убитых в последней войне, Орадур, Дахау, Дрезден и Хиросима; может быть, после всего этого действительно нельзя продолжать жить так, как пытался жить он – этаким новым Ван-Гогом, – не знать ничего, кроме работы, скитаться по стране с этюдником, вновь и вновь открывая для себя, чтобы запечатлеть на холсте, сказочную прелесть волнующейся степной травы и высоких полуденных облаков над равниной Камарги, радужные брызги прибоя, дробящегося о бретонские скалы, сонные заводи на Луаре, бесчисленные оттенки листвы виноградников Шампани… Может быть, это и в самом деле уже никому не нужно? Маршаны, правда, брались выставлять его холсты, похваливали колорит и композицию, но всякий раз при этом давали понять, что рассчитывать особенно не на что. «Вы понимаете, дорогой метр, пейзаж – это сейчас не очень…»
Жанровые вещи, написанные на исторические сюжеты, тоже не имели успеха, хотя «Отъезд из Вокулёра» и удостоился, правда, нескольких благосклонных отзывов печати. Ему самому, всегда относившемуся к своим полотнам с придирчивой требовательностью, «Отъезд» нравился даже сейчас, спустя одиннадцать лет. Да, нравился ему, автору, но не публике. И неизвестно – кого же, наконец, следует отнести к категории ослов: публику или его самого, Жерара Бюиссонье?
Очевидно, приходится признать, что осел – это именно он. И что Дезире была тысячу раз права, когда заявила ему о своем нежелании продолжать игру в романтику и голодать к вящей славе искусства…
Во рту стало горько от попавшего на язык табачного сока. Бюиссонье сплюнул, развинтил и продул трубку, привычным движением пальца умял табак. Да, так она ему и сказала, именно такими словами, в позапрошлом году на Кот д'Азюр. Поездка в Жюан-ле-Пен, на которую ушли их последние сбережения, была ее затеей, сам он никогда не любил модных курортов…
– Если не ошибаюсь, сеньор Бюиссонье? – раздался за его спиной незнакомый голос, произнесший испанские слова с сильным иностранным акцентом.
Вздрогнув от неожиданности, он обернулся и увидел перед собой незнакомца – крепкого, небольшого роста, в свободного покроя светлом костюме и сдвинутой на затылок панаме.
– Не ошибаетесь, – с некоторым недоумением ответил Бюиссонье. – Чем могу служить?
Незнакомец добродушно улыбнулся:
– О, я просто увидел и взял смелость подойти! Я вчера… как это… имел быть в «Галериа Веласкес», на ваша экспозиция. Мое имя есть Брэдли, Аллан Райбэрн Брэдли.
– Очень приятно… Бюиссонье пожал протянутую руку, та вцепилась энергично, с деловой хваткой. – Если вам удобнее, мы можем говорить по-английски.
– Неужто умеете? – обрадовался тот. – Тем лучше, будь я негр, не придется выламывать язык. Послушайте, мистер, вы сейчас свободны? Я бы предложил зайти пропустить по глотку – суббота ведь, в такой вечер грех не дать себе разрядку. Как вы на это смотрите?
Жерар ответил не сразу. Пить с незнакомыми он не любил, а тем более пить на чужой счет и не иметь возможности ответить встречным угощением.
– Спасибо, но я… сегодня меня не особенно тянет на выпивку, честно говоря…
– Бросьте, мистер! – Брэдли ободряюще потрепал его по локтю. – Бросьте, говорю, аппетит приходит во время еды. Впрочем, может, вы нацелились подцепить девочку? Нет? Тогда пошли! Пошли, что вам еще делать – вот так одному и торчать на улице?
«Резонный вопрос», – подумал Жерар. Или торчать одному на улице, или возвращаться в обшарпанную меблирашку в Барракас – сорок минут трястись в трамвае, а потом пробираться плохо освещенным переулком, мимо выставленных на тротуар зловонных мусорных баков. И если вернуться раньше полуночи, то есть риск встретиться с хозяйкой, которой не уплачено за два месяца.
– Идемте, – согласился он. – Вечер у меня и в самом деле не занят.
– …Вот пить вы, европейцы, определенно не умеете. Нет, я имею в виду настоящие мужские напитки. Куда это годится – сидеть вот так над бутылкой кислятины! Все равно что заниматься созерцанием собственного пупа. Как в Индии, знаете? Есть у них там такие, сидит целый день и созерцает. Поэтому-то вас и сшибли с арены – по недостатку динамизма. Мы в Штатах подходим к этому делу иначе. Время – деньги, верно? Значит, если мне нужно дать себе встряску, я что делаю? Быстро хлопаю стаканчик-другой – вот так, на два пальца бурбону, а сверху сода. И через десять минут душа у меня уже ликует. А пить вино – чистая потеря времени, и потом это ведь страшно негигиеничный продукт. Ведь его как делают? Ногами. Ногами, будь я негр! Сам видел во Франции: фермеры лезут прямо в чан с виноградом и топчут его ногами. А ноги-то небось и не мыты, э? Тогда как вот это… – Брэдли протянул руку и пощелкал по горлышку бутылки, – это виски вырабатывается с соблюдением всех правил гигиены, можете мне поверить. Это я тоже видел, как его дистиллируют. Чистота неописуемая! Рабочие в белых халатах, все кругом блестит, трубопроводы из нержавеющей стали – ну просто операционная… Нет, что бы вы ни говорили, а виски – штука гениальная, не хуже водородной бомбы. Главное – действует быстро и безотказно. Вот коктейли эти всякие – это уже ерунда, питье для школьниц. Знаете, когда коктейль бывает полезен? Вот если вам нужно в темпе обработать даму, тогда рецепт простой: два «хайболла», одна пластинка танцевальной музыки, и дело сделано. Э? Признайтесь, что вы в Европе до этой техники еще не дошли. Ведь верно?
– Ну как сказать. – Жерар усмехнулся. – Ваше лестное мнение о Европе, боюсь, несколько устарело.
– Да знаю я ее! В сорок пятом – в Германии и Италии – мы, понятно, обходились без музыки. Достаточно было показать банку корнед-бифа. Но тогда была особая ситуация – разруха, голод, сами знаете… Нет, я сейчас говорю о подходе к этим делам вообще. Европейцу, чтобы затащить девчонку к себе в постель, требуется еще целая чертова куча всяких атрибутов – серебряная луна, чувства, охи, ахи… На кой дьявол все это во второй половине двадцатого века? Просто смешно – вдруг требуется какая-то луна. При чем тут луна? Да по мне – провались она в преисподнюю… В конце концов, что мне нужно – луна или девчонка? Согласитесь сами!
Залпом опорожнив свой стакан, он снова долил его до половины и выбросил из кармана на стол пачку сигарет.
Оркестр заиграл французское танго, медленное и печальное. Несколько пар покачивалось на маленькой танцевальной площадке, освещенной цветными рефлекторами. Бюиссонье сидел прикрыв глаза, мундштуком трубки отстукивая ритм на подлокотнике. Брэдли молча курил и наблюдал за танцующими, потом вдруг снова пришел в возбуждение и ухватил художника за рукав.
– Смотрите, смотрите, – зашептал он громко, – видите ту, в синем? Вот та, что танцует с усатым, – видите? Что скажете, а?
– Да-а, – протянул Жерар, посмотрев на указанную пару. – Действительно, оригинальное лицо… помните боттичеллевскую Афродиту?
– Идите вы со своим Боттичелли, – отмахнулся Брэдли, – я говорю не про лицо, вы лучше обратите внимание на ее фигуру. Здорово, а? Не тело, а миллион долларов, будь я трижды негр. Чем мне нравится современная мода – это тем, что она – в отличие от всех прежних – раздевает женщину, вместо того чтобы ее одевать. В самом деле, эта девчонка в синем, разве она одета? С таким же успехом могла прийти танцевать в купальном костюме… или вообще без ничего. Молодец она, просто молодец… А у вас, кстати, на одной картине неплохая изображена дамочка…
– У меня?
– Да, там еще билетик был – «продано». Красивая такая блондинка, в длинном платье. Видная женщина.
– А, Изольда. – Жерар улыбнулся: Брэдли начинал забавлять его своей непосредственностью. – Единственный холст, на который нашелся покупатель. Так вам, говорите, она понравилась?
– Да, в моем вкусе. Не люблю, понимаете, этих современных… не знаю даже как их назвать. Женщина должна выглядеть женщиной, какого дьявола. Только вы позволите одно замечание?
– Сколько угодно.
– А то ведь ваш брат бывает обидчив. Так вот: мне думается, парня в гробу вы туда присобачили напрасно. Публика, Бусс, таких штук не любит. Мрачное напоминание – улавливаете мою мысль? Даже странно, что эту картину купили. Мексиканец какой-нибудь, не иначе.
– Почему мексиканец? – удивился Жерар.
– А они, сукины дети, такое обожают. Не приходилось бывать в Мексике? Там у детей любимая игрушка – скелетик на веревочке. Дергаешь, а он пляшет. Представляете? Я раз зашел в кондитерскую на Пасео де Реформа, спросил кофе с пирожными. Знаете, что мне принесли? Шоколадные гробики, будь я негр! Меня чуть не стошнило. Просто некрофилия какая-то, причем поголовно. У нас в Штатах, скажем, эту вашу картину никогда бы не купили. Нет, в самом деле, чего это вам вздумалось изобразить покойника?
– Вы «Тристана и Изольду» помните? Он ведь ее не дождался. Она приехала, а он уже мертв. Вот эту сцену я и написал.
– А-а, ну тогда конечно, – согласился Брэдли. – Нет, я про эту парочку не читал. Нет, понимаете, времени – слишком я для этого занят. А выдастся свободный день – тянет на выпивку или на что-нибудь вообще такое… – Брэдли вздохнул и отпил глоток. – Никогда не занимайтесь бизнесом, Бусс, послушайте опытного человека. Бизнес выжимает человека, как апельсин, это самая каторжная работа, будь я негр! Это только со стороны кажется, что бизнесмены живут и наслаждаются жизнью… Понятно, есть и такие – ежедневный гольф, прогулки в Европу, женщины и так далее, но это не настоящие дельцы, это, скорее, просто снобы, которые не делают деньги, а тратят их. Знаете, как живет настоящий бизнесмен? Он ни шиша не знает – ни девчонок, ни хорошей выпивки, никаких там парижей или неаполей. Он работает по восемнадцать часов в сутки, как самый последний черномазый сукин сын, и не видит ничего, кроме своих секретарей и своих телефонов. У него полно долларов, но он даже не может хорошо пожрать, потому что к сорока годам у него уже язва желудка и врачи разрешают ему одну овсянку…
– В самом деле, каторга, – кивнул Жерар, рассеянно наблюдая за танцующими. – Впрочем, вы, Брэдли, не производите впечатления выжатого апельсина. А?
Брэдли пожал плечами.
– Я не веду крупных дел, Бусс. Я представляю некоторые фирмы, но… скорее как служащий, как агент на процентах… а самостоятельных дел я не веду. Поэтому у меня больше свободы, больше возможностей располагать собой. Да и то… Я вам говорю – почитать некогда! Вообще паршиво. Вам, людям свободной профессии, можно только завидовать. Давайте-ка выпьем за людей искусства.
– Мерси.
Они выпили и некоторое время сидели молча, думая каждый о своем. Потом Брэдли нарушил молчание, внезапно рассмеявшись:
– Это я вспомнил о «людях искусства»… У меня есть в Штатах приятель, киношник, работает для «Уорнер Бразерз». Вот где обстановочка! Пьют они все, как сукины дети. Этот мой приятель летал в прошлом году на кинофестиваль в Монтевидео – вот, рассказывает, была потеха…
– Это всюду так, более или менее, – зевнул Жерар. – Я, правда, близко с этим народом не общался, но слышать приходилось. Во Франции на киностудиях тоже черт знает что делается.
– Да, эти умеют сочетать приятное с полезным, – посмеялся Брэдли. – И деньги делают, и веселятся в то же время. Но, надо сказать, работать наши ребята умеют, не даром получают свои доллары. Вам вообще наши фильмы нравятся?
– Признаться, не особенно.
– Серьезно? Ну, это вы напрасно. Правда, многие жалуются, что у нас фильмы пресные… Но это уж цензура виновата. Вы знаете, у нас на этот счет строго: если артистка снимается в купальном костюме, то он должен быть строго по регламенту. Цензоры тут как тут: чуть на полдюйма короче, сразу тебе хлоп вето – и в преисподнюю. Эти цензоры страшный народ, прямо коммунисты какие-то… Послушайте, Бусс, когда закрывается ваша выставка?
– Завтра.
– О, уже? Отлично… Давайте-ка встретимся с вами послезавтра вечером, у меня будет к вам деловой разговор. Заходите лучше ко мне на дом, там поговорим без помех. Я живу на Санта-Фе, почти на углу Кальяо. Вот, возьмите карточку… Это девятый этаж, квартира «Е»…