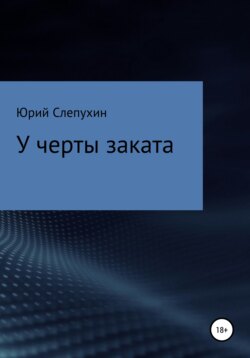Читать книгу У черты заката - Юрий Слепухин - Страница 3
Часть первая
Мы живем в двадцатом столетии
3
Оглавление27 декабря. Уже неделя, как я живу в квартире Брэдли. Через три дня после нашего разговора вдруг является посыльный с ключом и запиской: оказывается, толстяку срочно пришлось вылететь в Штаты месяца на три и он предлагает мне воспользоваться на этот срок его апартаментами. Пожалуй, не стоило этого делать, но хозяйка моя слишком уж ведьма, а искать где-то новую комнату нет ни энергии, ни денег. Да и, откровенно говоря, захотелось наконец пожить в человеческой обстановке. В конце концов, квартира все равно пустовала бы. Брэдли уплатил за нее за полгода вперед, так что в этом смысле мне нечего беспокоиться. Одним словом, сейчас я живу в роскошной квартире, в самом фешенебельном районе столицы, а обедать езжу в порт, в самую дешевую харчевню – «Трес маринерос». Без драки там не проходит ни одного дня, но зато за песо можно получить полную тарелку жратвы и стакан красного. От Изольдиных двух тысяч почти ничего не осталось, я и сам не знаю, куда они делись. Купил себе туфли, роздал долги, заплатил хозяйке, а на сорочки уже не хватило. Немного отложил на еду и табак, вот и все. Впрочем, все это чушь. Вчера я сделал последнюю попытку – как бы это покрасивее выразиться? – остаться честным человеком и сохранить незапятнанными мои высокие моральные принципы. Увидел в газете объявление: требуются рабочие всех специальностей на строительство текстильной фабрики. Поехал туда. Это за городом, но не так уж далеко. Оказалось, что ездить не стоило. Рабочие им действительно требуются, но в отделе персонала меня спросили специальность и, когда я назвался землекопом, попросили показать руки. После чего служащий пожал плечами и посоветовал бросить тотализатор, «пока не поздно». Принял меня за проигравшегося на скачках, – здесь такие не редкость. Уже на обратном пути я сообразил, что мог бы попросить место шофера. Впрочем, у меня ведь нет профессиональных прав.
На всякий случай побывал в консульстве. Туда иногда обращаются, если нужен учитель французского или коммерческий переводчик. Сейчас ничего нет. Секретарь посоветовал возвращаться во Францию, а относительно денег на проезд обратиться с просьбой в «Клуб французских резидентов». Пошел он с такими советами! Еще унижаться перед всякими дамами-патронессами, только этого не хватало.
Да и что мне даст теперь Франция? Возможность поступить в Иностранный легион и подохнуть от пули какого-нибудь алжирца или аннамита? Тогда уж лучше подохнуть здесь, это по крайней мере честнее (несколько слов зачеркнуто)… страшная злоба на все это проклятое общество, а иногда просто страх.
Такой припадок страха был сегодня ночью – когда я понял, что прочно и окончательно залез в мышеловку и теперь мне отсюда не выбраться. Панический страх. Почти такой же, как тогда в сорок четвертом, когда подрывали эшелон из Клермон-Феррана, а англичан черт принес с их самолетами. С бошами мы справились, а под бомбежку угодили. Меня завалило обломками водокачки, и когда я очнулся и почувствовал себя заживо погребенным – вот там я узнал, что такое страх! Я просто не мог вынуть пистолет – иначе хлопнул бы себя в ту же секунду. Вот так и теперь. Хотя, если подумать, то хуже. Тогда, по крайней мере, было за что умирать, а сейчас тебя завалило – и не знаешь, за что, почему, ради чего. Сплошной бордель.
31 декабря. Ну вот и Новый год, тысяча девятьсот пятьдесят третий от Рождества Христова. В Париже он уже наступил, здесь наступит через два часа – сейчас его встречают на судах посредине Атлантики. Термометр снаружи показывает плюс 34 по Цельсию. Как ни странно, к этому привыкнуть труднее всего – к новогодней жаре. Хорошо еще, что в квартире воздух искусственно охлаждается.
За окном – дождь бенгальского огня, взвиваются разноцветные ракеты, медленно улетают маленькие бумажные монгольфьеры, освещенные изнутри стеариновой плошкой. Бурный темперамент не позволяет аргентинцам дождаться полуночи – празднование Нового года здесь всегда начинается заранее, чуть ли не с заката солнца. Сегодня я истратил последние пиастры – купил куклу дочери консьержа Аните, а для себя бутылку хорошего бордоского. В двенадцать включу радио, настроюсь на Франс-II и буду слушать и пить за собственные успехи.
Да, вчера звонили из консульства – заходил какой-то тип, спрашивал обо мне, похоже, что хочет купить «Отъезд из Вокулёра». Я ответил, что эта вещь не продается. Секретарь пробурчал что-то насчет того, что я, мол, живу в квартире с телефоном и отказываюсь продавать картины, а прикидываюсь безработным. Я не дослушал и повесил трубку. Потом меня подмывало позвонить ему и пригласить на коктейль-парти. Если бы он увидел квартиру – совсем бы рехнулся. А по сути дела, «Отъезд» следовало продать. Какие уж тут красивые жесты, когда жрать нечего! Но все равно, Жаннету я не продам. Слишком к ней привык. Тем более что лишняя тысяча пиастров ничего не изменит, а только оттянет развязку.
8 января. Потешная история. Уже четыре дня промышляю в «Трес маринерос» карандашными экспресс-портретами – увековечиваю посетителей. Желающих много, хорошо платят. Впрочем, теперь эти глаголы следует переставить в «пассэ дефини»: промышлял, увековечивал, платили. Напротив харчевни расположена минутная фотография – я этого просто не учел. Сегодня, когда я как раз был в ударе и увековечивал одного парня с финского лесовоза, зашел фотограф – повертелся, заглянул через мое плечо. А под вечер, когда я в радужном расположении духа шел отдыхать после трудов праведных, со мной поравнялась какая-то мрачная личность и таким же мрачным тоном посоветовала отдать швартовы и переменить якорную стоянку. Он даже не уточнил, что меня ожидает в случае ослушания. Это, как говорится, было понятно без слов. Стоянку я пообещал переменить, потом личность попросила у меня два пиастра на кружку пива, и мы расстались по-джентльменски.
23 января. Звонил в консульство – спросил, не оставил ли адреса тот тип, что интересовался «Отъездом». Мне с ледяной любезностью ответили, что нет, к сожалению. Нет так нет. Вчера был по объявлению в рекламном агентстве «Орбе публисидад», им там требуется художник. Роскошная обстановка – стекло, нержавеющая сталь, мебель какого-то марсианского стиля, похоже на реквизит из фильма «Год 2000». Очень милая сеньорита из породы синтетических блондинок, типичная голливудская гёрл. Встретила меня так любезно, что я уже счел себя принятым, – усадила в марсианское кресло, сама села напротив, предложила английскую сигарету. Узнав, что я француз, рассыпалась в похвалах Парижу, где проводила отпуск в прошлом году. Отдав дань светской болтовне, я поинтересовался – что, собственно, потребуется от меня для того, чтобы осчастливить «Орбе» своим сотрудничеством. Оказалось, что потребуется совсем немного: справка о политической благонадежности (зачем, черт побери?) и несколько работ – с указанием, где, кем и когда были опубликованы. «Пусть мсье представит это господину директору, и в течение недели господин директор даст мсье ответ. О, мсье не пожалеет, если решит работать для нашего агентства, – с лучезарной улыбкой заверила сеньорита. – «Орбе публисидад» на хорошем счету, за один сегодняшний день к нам поступило шесть кандидатур…» Я небрежным тоном ответил, что пока не вижу за «Орбе» никаких преимуществ перед известными мне европейскими агентствами – за исключением подбора сотрудниц, делающего честь вкусу господина директора, – и что, вообще, я еще подумаю… Словом, отступление было проведено с достоинством. Не мог же, в самом деле, я ей признаться, что никогда в жизни не занимался рекламной графикой!
Каждый вечер сажусь к телефону и обзваниваю все одиннадцать магазинов, куда рассовал на комиссию свои холсты (все, кроме «Отъезда»; Жаннетту, что бы ни было, продавать не хочу). Никто ничего не покупает. Просто проклятье какое-то!
30 января. Дальше так продолжаться не может. Сегодня пригрозили выключить свет, если не уплачу по счету в течение недели. (Квартира, как мне говорил Брэдли, оплачена за полгода вперед, но за телефон, воду и электричество приходится платить мне.) Шестьдесят пять пиастров – откуда я их, к дьяволу, возьму? Я понимаю возмущение инкассатора, который приходит ко мне уже третий раз, – еще бы, жить в такой квартире и отказываться уплатить за свет. Поди объясни ему, что я вчера не жрал!
Впрочем, все это ерунда. Дело не в электричестве. Дело в том, что я месяц назад дал себе слово – в течение января решить, как быть дальше. Браться за «это дело» или не браться. Сегодня я понял, что все это время я вовсе не пытался найти решение, а просто трусил, играл в жмурки с собственной совестью, боялся признаться самому себе в уже свершившемся факте. Все было решено в тот вечер, когда я не дал Брэдли по физиономии и не ушел. Что уж теперь говорить красивые слова! Если я все же не позвоню этому Руффо, это будет лишь акт трусости, продиктованный боязнью последствий, а вовсе не доказательство моей стойкости. Ее уже нет – после того вечера. Не вижу принципиальной разницы между преступником, уже совершившим преступление, и человеком, в душе согласным на преступление, но боящимся его совершить. Может быть, преступник явный честнее преступника потенциального. Но и опять – и это самое страшное – я все же не уверен, действительно ли является преступлением то, что я собираюсь сделать. То, к чему я вынужден обстоятельствами. Цель оправдывает средства? Никогда не мог согласиться с такой постановкой вопроса – и к чему я пришел? Художник, работающий для самого себя, – живой труп. Он бесполезен так же, как бесполезна крутящаяся вхолостую динамо-машина, отключенная от линии. Если я пишу картины, которые ни на кого не воздействуют, – зачем их писать? Но у меня есть возможность добиться такого положения, при котором они будут воздействовать на многих, при котором мой талант не окажется бесплодным. Для этого нужно пройти через грязь, пожертвовать своей моральной чистоплотностью. Б., несомненно, прав в том, что только деньги могут дать человеку возможность играть какую-то роль в нашем обществе. Если я считаю, что моя роль будет полезной, – то не все ли равно, какими путями я к ней приду? Верно и то, что я, согласившись на предложение Р., не нанес бы этим никакого ущерба обществу. Следовательно, единственный ущерб будет при этом нанесен мне – моей собственной морали, моему чувству собственного достоинства. Черт, как это все сложно! Тут недолго додуматься и до того, что я, согласившись проституировать свой талант, превращаюсь чуть ли не в героя, жертвующего собой ради общества. Я, кажется, окончательно во всем этом запутался. Нужно рассмотреть это дело спокойно и беспристрастно, по-бухгалтерски. Что я выигрываю и что теряю в одном случае и что – в другом. Впрочем, что там рассматривать, у меня ведь все равно нет никакого выхода,
1 февраля. Завтра позвоню Р. В общем, посмотрим, что он мне закажет. Если слишком уж мерзкое что-нибудь – откажусь, пусть ищет другого. А может быть, и не откажусь, не знаю. Я сейчас вообще ничего не знаю. Знаю только, что влип так, как не влипал никогда в жизни. Похуже, чем тогда, под водокачкой.
5 февраля. Замечательная погода – только что прошел дождь, и город весь чистенький, как лакированный. На улице, очевидно, душно, – здесь всегда душно после летнего дождя. А со стороны смотреть – красиво. Сейчас я звонил Р. Интересное дело – обычно с этими важными господами созвониться не так просто, а тут можно подумать, что сам дьявол сидел за коммутатором: сразу же соединили. Голос у старика малоприятный – пискливый какой-то, резкий. Я сказал, что звоню от имени мистера Брэдли по вопросу картин. Старик обрадовался и заявил, что завтра – в воскресенье – ждет меня в своем загородном доме. Спросил, в котором часу прислать машину. Я сказал, что буду дома весь день, пусть присылает когда угодно. Вот так.
7 февраля. Ну что ж, рассказать о поездке в Каноссу? Мой новый повелитель принял меня исключительно любезно, долго показывал свою галерею, накормил лукулловым обедом. В живописи он не понимает ни шиша – это я понял с первого же взгляда на ту мазню, которой он обвесил все стены. Б. был прав: сюжеты все один к одному. Впрочем, ничего
по-настоящему гнусного, просто голые бабы во всех видах. После обеда, за кофе, старик осторожно перешел к делу. Не знаю ли, мол, я, где можно достать несколько хороших картин на такие, знаете ли, темы… поигривее, мм-да… ну, и чтобы было натурально, «вы понимаете, не правда ли?». Если бы он нашел художника, который согласился бы взяться за такую работу, он, дескать, не постоял бы за ценой. «Ну, скажем… тысяч по десять – это ведь хорошая цена, не правда ли?» (Проклятый торгаш, Аллану говорил – от пятнадцати до двадцати, а здесь выколачивает подешевле). Ну, а темы – это он полностью оставляет на усмотрение художника. «Для начала, скажем, какую-нибудь там вакханочку, что ли, но поигривее, поигривее». У него гнусная манера хихикать. Старый сатир, сукин сын. Я, не вынимая изо рта трубки, с великолепным спокойствием заявил: «Двадцать пять тысяч, и через три недели вы будете иметь свою вакханку». Проклятый сатир заерзал, как грешник на сковородке. Откуда у него такие деньги, помилуйте! Дела последнее время идут как нельзя хуже, с кожевенным бизнесом сейчас вообще беда – всюду, знаете ли, эти заменители, синтетика… Я ответил, что меня мало интересует состояние его бизнеса; если сеньор не согласен заплатить мне двадцать пять тысяч, из которых пять – сейчас, в качестве гарантийного аванса, то пусть вооружается кистью и пишет свою вакханочку сам. Он прямо захныкал: «Но ведь я думаю заказать вам несколько картин, не одну, а вы же знаете – оптовые цены всегда ниже розничных, это закон коммерции!» Но я, черт побери, держался, как гвардия под Ватерлоо. Сказал, что законы коммерции меня интересуют еще меньше, и что оптом дешевле обходятся разве что дохлые коровы, но никак не вакханки. И повторил требование насчет аванса, – почем знать, что он через неделю не передумает? Словом, кончилось тем, что сатир извлек чековую книжку и выписал 5.000.
Теперь вот сижу и не знаю, как быть. Дело в том, что я очень мало имел дела с обнаженной натурой. Без натурщицы не обойтись, но не хотелось бы привлекать к этому еще кого-то. А придется, никуда не денешься! Надо будет забежать в «Аполо» – там всегда полно нашего брата, кого-нибудь посоветуют.
Руффо со мной договорился, что приедет дней через десять – посмотреть, как идет работа. Пусть приезжает, черт с ним. Надеюсь, что основное будет к тому времени уже готово, хотя бы вчерне. Над композицией раздумывать особенно не приходится, а пишу я быстро.
9 февраля. Сейчас была натурщица. Только собирался пойти пообедать, вдруг звонок. Открываю – влетает этакая райская птичка в ренуаровских тонах: темно-рыжие волосы, персиковый загар, глаза прямо фиолетовые. «Здрасьте, – говорит, – я от Пузана, очень приятно познакомиться». Я совершенно обалдел. «От какого еще Пузана, – говорю, – вы, наверное, ошиблись, сеньорита». А она: «Ну как же, – говорит, – Пузан Ремихио, не знаете что ли, бармен в «Аполо», он дал мне ваш адрес – вы ведь ищете натурщицу?» Я только и нашелся, что пробормотать, что да, действительно, натурщицу-то я ищу, но мне бы что-нибудь попроще… Птичка рассмеялась и протянула руку, отрекомендовавшись сеньоритой Элен Монтеро, а для друзей – просто Беба. Боюсь, их у нее слишком много, этих друзей. Войдя в комнату, она огляделась, тараща свои пармские фиалки, и объявила, что ей у меня нравится. Очень. Меня это, разумеется, страшно обрадовало. Потом она порылась в сумочке и запихнула себе в рот какую-то огромную конфету, причем попутно попыталась угостить и меня. Отказался с ледяной вежливостью. «Не успела позавтракать, понимаете, – объясняет она с набитым ртом, – а позировать вам я согласна». – «Мадемуазель, – говорю, – прошу учесть, что я пишу обнаженную натуру». – «Ну и что, – говорит, – это право артиста – выбирать, с какой натурой работать, только ню дороже обходится – по полсотни национальных». – «Что, за сеанс?» – «А вы думали, в месяц?» Цена, конечно, непомерная – это был отличный предлог мирно расстаться, но я упустил момент и сдуру сказал, что если хочет, то пусть приходит завтра с утра. Она жизнерадостно заявляет: «Еще бы я не хотела!» – и спрашивает, устраивает ли меня ее фигура и не желаю ли я взглянуть на ее фото в купальном костюме – снято неделю назад, на побережье. Я говорю, что фигура вполне устраивает, а фото меня не интересует и вообще я сейчас занят. «Ладно, завтра увидите оригинал. До свиданья, дон Херардо, очень рада с вами познакомиться, до завтра». Только я ее выпроводил – опять звонок, опять она. «Простите, – говорит, – я вас надула – мне платят гораздо меньше». При этом в глазах искреннее раскаянье. Я ей ответил, что не догадаться об этом мог бы только кретин, но что в награду за ее честность договор остается в силе. Просияла и ушла. Ну и ну!