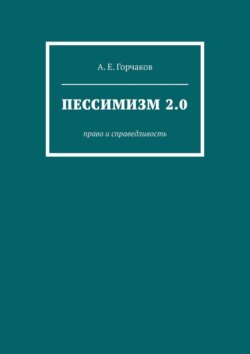Читать книгу Пессимизм 2.0. Право и справедливость - А. Е. Горчаков - Страница 15
Часть II.
Древнейшие государства
Глава 11.
Месопотамия
11.1. Государство
ОглавлениеЗаметный рост коллективной антропосферы на территории Месопотамии начинается в обейдский период. Основным источником её прогресса была ирригация земель. На орошаемых землях эффективно велось сельское хозяйство, хотя орудия труда и даже гвозди делались из глины. Самой процветающей областью в этот период была Южная Вавилония. Постепенно в совокупном общественном мнении утверждается представление о том, что вся земля принадлежит богу, а храм – главное место общественной жизни. Обейдская культура была единой для всей территории Месопотамии, после её окончания начинается самостоятельное развитие севера и юга.
Уже в более ранней халафской культуре деревни можно считать небольшими городами. Начиная с обейдского периода, на территории Южного Ирака люди научились эффективно использовать реки, и деревни начали активно расти, превращаясь в города. Эта фаза развития государства получила название протолитературного периода, поскольку к ней относят возникновение письменности. Считается, что тогда же началось широкое использование металла.
Создание шумерами городов-государств и их расцвет приходятся на раннединастический период. Ирригация, основной источник прогресса антропосферы, не может осуществляться без учёта влияния на соседние земли: если на одном участке забрать много воды, то соседний может остаться без неё. Кроме того, трудоёмкие работы начиная с определённого момента нельзя вести одной семьёй или общиной. Поэтому единый хозяйственный механизм складывался на больших площадях, что и привело к появлению городов-государств. По этой же причине в Месопотамии мы находим ранние письменные нормативные акты и правила контроля (инспекция каналов) за их соблюдением, т.е. административная система возникает из потребности перераспределять ресурс, необходимый для прогресса антропосферы.
Определяющее влияние погоды на результат труда сделало почитание богов, т.е. сублимацию ужаса перед утратой своей экзистенции из-за неблагоприятных погодных условий, центром представлений жителей о мироустройстве. Распространившись вместе с ирригацией из дельты в речную долину, эти представления обеспечили культурное единство территории. По той же причине возникла базовая для дальнейшего развития идея о принадлежности всей обрабатываемой земли местному божеству, и о том, что основной функцией жителей, не исключая их правителей, надо считать работу в храмовых поместьях. Скорее всего, города-государства возникали на основе храмов местного божества.
Модель государства выглядела в этот период, согласно Т. Якобсену, следующим образом. Первоначально основой системы было общее собрание горожан. Поскольку земля принадлежала божеству, повторяющимся вопросом на таких собраниях были выборы его (её) супруга. Этот человек назывался «эн», был религиозным функционером и жил в храме потому, что от него зависело плодородие в государстве. Таким эном был, например, Гильгамеш. С ростом коллективной антропосферы, административно-хозяйственные функции эна, сначала второстепенные, стали важнее, чем религиозные и он стал правителем города. Эн осуществлял общее управление, хозяйственные функции теперь выполнял чиновник, называвшийся энси, а религиозные – жрецы. Именно энси, а не эн стал настоящим правителем города к концу раннединастического периода. Тогда же, видимо, город стал независимым от храма. Так сложилась одна из первых стабильных моделей государства в Месопотамии. Такую модель Т. Якобсен назвал «примитивной демократией».
В случае внешней угрозы II рода выбирался военный лидер – лугаль. Сначала должности эна и лугаля не наследовались, но позднее правителя города энси стали называть лугалем, если за время правления его власть распространилась на другие города-государства. Слияние титулов подчёркивало, что он обеспечил прогресс коллективной антропосферы как за счёт внутреннего, так и за счёт внешнего источника отрицательного потока энтропии, т.е. об успешно-агрессивной внешней политике. К концу раннединастического периода должность энси стала наследственной.
Главной причиной агрессивной внешней политики был рост населения городов. Требование жителей обеспечить продление их экзистенции заставляло городские власти бороться за орошаемые земли. Шумер был лишён собственных источников важных конструкционных материалов: дерева, камня и металла. Поэтому вторым фактором стала борьба за контроль над внешними источниками отрицательного потока энтропии – торговыми путями, по которым эти материалы везли. Таким образом, уже в раннединастический период можно говорить об имперской модели шумерских городов государств. Её воплощение стало вынужденной мерой, но сути это не меняет.
Рост коллективной антропосферы и особенно, её вещной группы элементов, в городах-государствах провоцировал внешние угрозы II рода, исходящие от соседей. Для защиты от них города обзавелись стенами и постоянным войском. С появлением постоянного войска связывают отказ от перевыборов эна или лугаля, однако ограничения на их полномочия сохранялись.
Рост коллективной антропосферы позволял правителю создавать собственные административные единицы (дворы) в подконтрольных городах. Эти дворы действовали в интересах своего создателя, а не города, где они располагались. К концу раннединастического периода в ключевых городах располагались уже не только дворы, но и гарнизоны. Так закладывались основы для будущей имперской модели единого государства. Совокупное общественное мнение видело в ней возможности для прогресса как коллективной, так и среднестатистической индивидуальной антропосферы. Среди городов в силу примерно одинаковых экономических условий не было явного лидера, поэтому центральная власть в них была слабой.
Любая система перераспределения допускает, что люди, её осуществляющие, могут значительно увеличивать свою индивидуальную антропосферу, неявно меняя правила в свою пользу. Свидетельства, дошедшие до нас из Лагаша, указывают на появление аристократии, которая, пользуясь механизмом кредитования, делала бедных неимущими. Сформировавшись, аристократия начала борьбу с энси за статус храмовых поместий. Она отстаивала их автономию, а энси выступал за их аннексию и присоединение к городским землям. Это была борьба между централизованным государством и тем, что позднее назовут феодальной раздробленностью. Страдали от неё простые люди, вынужденные платить налоги и тем и другим. Учитывая статус земли, принадлежавшей богу, идея справедливости была выражена двояко: горожане жаловались на высокие налоги и на то, что энси пытается присвоить имущество бога.
Отношения между светской властью, жречеством, их борьба за поместья позволяют достаточно уверенно утверждать, что сложившаяся к этому времени модель государства была основана в концепции, которую назовём протофеодальной. Земля обрабатывалась свободными земледельцами, постепенно мелкие хозяйства поглощались крупными, велика роль религии, есть центральная власть, хотя и слабая, рабами становятся только военнопленные.
Города-государства не могли в одиночку обеспечить безопасность торговых путей, являвшихся для них источником отрицательного потока энтропии, особенно в условиях нехватки основных конструкционных материалов. Для этого требовалась координация усилий, и идея сильной центральной власти возобладала в совокупном общественном мнении. При Лугальзагеси, царе, разрушившем Лагаш и постепенно завоевавшем весь Шумер, идеалом, по мнению Т. Якобсена, считался могущественный правитель, признаваемый международным третейским судьей и поддерживавший внутренний мир.
Добиться этого на некоторое время удалось династии, основанной Саргоном Аккадским (2371—2316 до н.э.). Империя Саргона занимала значительную часть Ближнего Востока, и международная торговля давала царю сильный источник отрицательного потока энтропии. Однако империя просуществовала недолго – уже при Нарамсине (2291—2255 до н.э.), внуке Саргона, она пала.
Причина падения не вполне ясна, но есть свидетельства о восстании главных городов и сам Нарамсин называется в одном из текстов безбожником. По косвенным признакам можно предположить, что Нарамсин слишком усилил центральную власть в ущерб местной. В преданиях говорится, что он осквернил и разграбил храм Экур в священном городе Ниппуре, за что был лишён покровительства богов. Предание, скорее всего, является попыткой оправдать бунт аристократии, опиравшейся на храмовые поместья в борьбе против центральной власти. Под разграблением храма (или храмов) может пониматься его оскудение в результате политики царя. Централизация, если таковая проводилась, должна была неизбежно лишить аристократию, особенно местную, части, возможно, значительной, её субъектности в модели государства. Наложившись на тлеющий конфликт между энси и местной аристократией, такая потеря могла привести к их солидарному выступлению против Нарамсина. Требование элиты городов-государств участвовать в системе перераспределения справедливо – ведь именно они отвечали за внутренний источник отрицательного потока энтропии в коллективной антропосфере империи. Реализация этого требования ослабила империю и, вероятно, привела её к распаду под воздействием угроз II рода, которых всегда в избытке у богатого государства.
Идея сильного центра была более популярна в совокупном общественном мнении Шумера и Аккада, чем идея феодальной раздробленности, поэтому после 130-летнего перерыва имперская модель государства была восстановлена. Новую, Третью династию Ура, основал правитель, имя которого – Ур-Намму – хорошо известно всем, кто изучал историю государства и права.
Ур-Намму (2113—2096 до н.э.) удалось сделать то, что погубило Нарамсина: воплотить в жизнь модель государства с сильной центральной властью. При нём энси превратились в обычных губернаторов без права командовать гарнизонами. Губернатор, помимо властных и судебных функций, отвечал за прогресс коллективной антропосферы, т.е. занимался ирригацией и каналами, он регулярно отчитывался перед царём за благополучие территорий. Чтобы исключить союз с местной знатью, стала применяться практика ротации губернаторов между городами. Царь был в курсе положения дел в городах и в соседних государствах. Была развита сеть каналов и восстановлена международная торговля. Его преемники Шульги, Амар-Син и Шу-Син продолжили успешно руководить страной и расширять её, распространив экономическую власть на Элам и Ассирию. Однако после них, в 2006 г. до н. э. при Ибби-Сине (2029—2006 до н.э.) империя, пережившая к этому времени мирное нашествие семитов и ослабленная им, пала под ударами аморитов, пришедших из западной пустыни. Не преминул воспользоваться ситуацией и соседний Элам.
Вместе с семитами в Месопотамию пришла новая практика землевладения: теперь считалось, что земля может принадлежать не только местному божеству, как это было у шумеров, но и общине, царю, и даже частному лицу. В раннем Шумере частной собственности на землю практически не было.
При Третьей династии Ура происходит важная социальная трансформация: если до этого времени рабами становились военнопленные, которые принадлежали храмам или дворцам, то теперь и свободные горожане превращались в рабов из-за долгов, за долги родители могли продать в рабство детей, появилось частное рабство. Впрочем, рабы не приравнивались к вещи: раб мог иметь имущество и своих рабов, он мог выкупить свободу, если накопит денег, мог обращаться в суд, жениться, причём не обязательно на рабыне, воспитывать детей.
Г. Саггс считает, что такие изменения произошли из-за ухудшения экономических условий под влиянием нашествия аморитов. Более логично предположить, что эта трансформация стала результатом изменений, привнесённых семитами в понимание мироустройства жителями Шумера, а именно, ответов на вопросы «для чего?» и «как доступно?» в отношении элементов антропосферы. Если земля могла принадлежать частному лицу, то почему так же не поступать в отношении рабов? Таким образом, важной характеристикой общего права становится возможность устанавливать субъектность в отношении главных источников прогресса антропосферы (земля и труд человека) для индивидуального имени. Это был важный шаг в направлении к т.н. писаному праву. Широкое распространение рабства не дает оснований утверждать, что оно служило основой прогресса коллективной антропосферы.
Сразу после падения Шумера наиболее влиятельным стало исинское царство, которое было создано на обломках, оставшихся от империи и, в каком-то смысле было её продолжателем, поскольку было основано Ишби-Иррой (2017—1985 до н.э.), чиновником Ибби-Сина. По-видимому, политика династии Ишби-Ирра была попыткой восстановить модель государства, действовавшую при восшествии на престол Ибби-Сина. К началу XIX в. до н.э. наблюдаются первые признаки возвышения Ассирии и Вавилонии, одновременно с которыми набирает силу новое государство – Ларса. Её возвышение было связано не только с упадком Исина, но и с успехами в восстановлении и развитии ирригационной сети, чего, как считает Г. Саггс, не делалось со времени Ибби-Сина. После захвата Ура Ларса также получила в своё распоряжение новый источник отрицательного потока энтропии благодаря морской торговле.
Севернее Ларсы набирал силу Вавилон. Основатель Первой династии Вавилона Сума-абум (1894—1881 до н.э.) укрепил город и присоединил военными и дипломатическими методами несколько соседей. После того как Ларса завоевала Исин, её борьба с Вавилоном перешла в эндшпиль. Это было в конце правления Син-Мубаллита (1812—1793 до н. э.). Его сын, Хаммурапи (1792—1750 до н.э.), сделал Вавилонию единым могущественным государством, опираясь на общую религиозную антропосферу.
Не только военные и дипломатические таланты обеспечили процветание Вавилонии при Хаммурапи. Его административная деятельность была не менее важной. Управление государством было централизованным и никакое дело не ускользало от внимания царя. Хаммурапи делал ставку не только на внешний источник отрицательного потока энтропии, т.е. завоевания, он продолжил развивать внутренний, строя каналы. Он дал всем городам-государствам единый язык, после него в Вавилонии появился единый пантеон богов. В целом религиозные представления вавилонян можно охарактеризовать как пантеистические, основанные на культе плодородия. Но главное – система перераспределения элементов антропосферы, выраженная Хаммурапи в его законах, которая существовала вплоть до подчинения Вавилона персами.
Важным новшеством в системе перераспределения элементов антропосферы в этот период было изъятие части храмовых земель в пользу царя. Укрепив веру созданием единой религиозной антропосферы, Хаммурапи ослабил церковь, частично лишив её церковной антропосферы. Часть отнятых у храмов земель стала даваться за службу. Получали их в основном военные, но известны случаи, когда земли получали ремесленники и торговцы.
Особенностями рабства при Первой династии Вавилона были, во-первых, отсутствие кастовости для рабов, т.е. раб мог стать свободным и наоборот и, во-вторых, основным их источником была покупка в других землях. Занимался этой торговлей человек, которого называли тамкар.
Он торговал не только рабами, но и всем остальным, а также совмещал функции купца и банкира, давая ссуды для торговых предприятий. Государство не только требовало от тамкаров уплаты части прибыли, но и накладывало на них особые обязанности. Их фактически принуждали участвовать в сохранении и развитии коллективной антропосферы через, например, выкуп воина, попавшего в плен. Вместе с тем, эти люди, первые представители торгово-финансовой элиты, обладали весьма высокой степенью самостоятельности в своей деятельности. Сама торговля осуществлялась в основном по рекам. Суда для неё производили в среднем течении Евфрата в городе Мари.
Преемники Хаммурапи не были столь же успешными правителями. Под напором касситов были потеряны Ур и Урук, а затем они допустили бунт на юге страны, с которым не смогли справиться. В 1595 г. до н.э. Вавилон разграбил хеттский царь Мурсили I и в городе началось правление касситов, распространивших свою власть до среднего течения Евфрата.
Касситы интронизоровали многое из накопленной коллективной антропосферы вавилонян. Под их властью Вавилон достиг нового пика своего могущества. Правление касситов Г. Саггс называет либеральным, опираясь на отсутствие сведений о каких-либо мятежах в период их правления. Он также делает вывод о том, что династия заботилась о правах горожан, реакция которых сильно влияла на поведение царя. Примем это утверждение как показатель той самой «примитивной демократии». Отметим, что такая форма свойственна полиэтническим городам Вавилонии, которые были замкнутым пространством, постоянно подвергались угрозам II рода, и накапливали не только природную, но и вещную группу элементов в коллективной антропосфере.
Отсутствие внутренних возмущений позволяет говорить об удачной модели государства. Именно на неё опиралось обретённое Вавилонией влияние среди древних царств, о котором свидетельствует обмен послами с Египтом при Караиндеше I. Куригальзу I, второй по счёту преемник Караиндеша I, был самым успешным правителем касситской династии. Вавилония настолько укрепилась, что Бурнабуриаш II (1375—1347 до н.э.), второй правитель после Куригальзу I, хотел стать сюзереном для Ассирии, правда, безуспешно.
Одновременно с Вавилоном расширялась и набирала силу Ассирия, ранее входившая в империи Саргона Аккадского и Третьей династии Ура. Ассирия, благодаря своему географическому положению, вела обширную торговлю с контрагентами в Малой Азии, что обеспечивало ей внешний источник отрицательного потока энтропии. Накопленная таким образом коллективная антропосфера позволила царю Ассирии Ишулуме, его сыну Ишулуму I и его внуку Саргону I Ассирийскому сохранить процветающее государство после падения Третьей династии Ура. Процветание это было недолгим: хетты, вторгшись в Малую Азию, разрушили его основу – внешнюю торговлю с этим регионом. Последовал упадок, продолжавшийся до воцарения аморита Шамши-Адада (ок. 1814— 1782 до н.э.) при котором Ассирия испытала короткий экономический подъём. Во время его царствования произошло первое серьёзное столкновение с Вавилонией Хаммурапи в борьбе за крупный внешний источник отрицательного потока энтропии – богатое царство Мари, которое Ассирия проиграла.
Если Вавилония попала под власть касситов, то в Ассирии начала доминировать ещё одна новая народность – хурриты. После убийства Мурсили I хетты ослабели, а Ассирия, лишившаяся торговых связей с Малой Азией, т.е. внешнего источника отрицательного потока энтропии находилась в упадке. Эти обстоятельства позволили хурритам создать своё царство – Митанни (XVII—XIII вв. до н. э.), которое включило в себя и Ассирию. Сведений об этом царстве, полезных для нашего исследования, не осталось, поэтому упоминание о нём сделано лишь для сохранения временной целостности общей картины. Упадок Митанни привёл к её распаду и, в конце концов, уже её остатки, называвшиеся Ханигальбат, стали частью Ассирии в правление Салманасара I (1274—1245 до н. э.).
Начало возрождения Ассирии при Ашшур-убаллите I (1365—1330 до н.э.) связано с традиционной для государств Месопотамии политикой увеличения собственной коллективной антропосферы благодаря захвату чужой. Преемник Салманасара I, Тикульти-нинурта I (1244—1208 до н.э.) включил Вавилонию в состав Ассирии. Попробуем с позиций предлагаемой теории посмотреть на это событие.
Правление касситской династии было либеральным, а её политика внешней экспансии в какой-то момент достигла своего предела, которым стала неудачная попытка завоевать Ассирию. Касситские цари отказались от поиска внешнего источника отрицательного потока энтропии, и перешли к поддержанию и развитию внутреннего, опираясь на единую религиозную антропосферу подданных, сложившуюся в Вавилонии после царствования Хаммурапи.
Правление касситов можно считать не только либеральным, но и рациональным. Накапливаясь в городах Вавилонии, коллективная антропосфера способствовала росту среднестатистической индивидуальной антропосферы вавилонян, а вместе с ней росло в их сознании имманентное индивидуальное. Чем больше в сознании человека доля имманентного индивидуального, тем выше он ценит свою экзистенцию, и тем менее он готов жертвовать собой ради других, поэтому военные успехи Вавилонии сошли на нет. Когда ассирийцы захватили Вавилон, они должны были задать себе вопрос: почему здесь так много богатств? В сознании тогдашних жителей Месопотамии правильным был единственный ответ: это воля богов. Более развитая коллективная антропосфера всегда более привлекательна. Этим объясняется перевоз Тикульти-нинуртой I статуи Мардука в свою столицу, интронизация частью ассирийцев религиозной антропосферы вавилонян, неожиданный отказ Ассирии от завоеваний и последовавший затем быстрый упадок. В результате всего этого Вавилония на некоторое время подчинила себе Ассирию. Это не могло продолжаться долго потому, что принятие чужой схемы прогресса коллективной антропосферы «как есть», ведёт к упадку, а не успеху, в чём легко убедиться и сегодня. К успеху ведёт только создание собственной, опирающейся на совокупное общественное мнение, схемы прогресса коллективной антропосферы.
При Ашшур-реш-иши (1133—1116 до н. э.) Ассирия снова стала независимой от Вавилона. Его преемник Тиглатпаласар I (1115—1077 до н. э.), опять взял под контроль традиционный для Ассирии внешний источник отрицательного потока энтропии, т.е. главные торговые маршруты в Западной Азии и значительно расширил, правда, ненадолго, территорию страны, продвинувшись в Малую Азию и Сирию. Но уже после его смерти Ассирия снова пришла в упадок из-за вторжения с запада арамейцев.
К началу X в. до н.э. арамейцы освоились на новых для них территориях, международная торговля через Сирию возродилась, вместе с которой началось восстановление могущества Ассирии. Адад-нирари II (911— 891 до н. э.), второй правитель из новой династии возобновил традиционную стратегию захвата чужой антропосферы, начав с земель, расположенных к югу от Нижнего Заба, которые к этому моменту вавилонский царь пытался присоединить к себе. Победив в этом столкновении и заключив договор с Вавилонией, Адад-нирари II обеспечил безопасность своих южных границ. Установив контроль над всем течением Хабура, он сделал безопасными и западные границы. Традиционные для страны источники отрицательного потока энтропии, а именно западные торговые пути и торговля с югом через Вавилонию, позволили быстро наращивать коллективную антропосферу. Этот процесс шёл успешно ещё по двум причинам: во-первых, преемники Адад-нирари II продолжали его политику и, во-вторых, они не забывали о второй функции государства – создавать условия для прогресса коллективной антропосферы, т.е. направляли часть получаемых богатств на экономическое развитие.
Для обеспечения безопасности границ нужно было контролировать соседние территории. В отношениях с соседями Ассирия действовала по следующему алгоритму. Сначала с государством-соседом устанавливались отношения, представлявшие собой нечто среднее между союзом и вассалитетом. Если условия выполнялись, то в критических ситуациях Ассирия оказывала серьёзную поддержку. Если же обязательства нарушались, например, не платилась дань, то к государству применялась военная сила, и его правитель заменялся на проассирийского. Наконец, на последнем этапе это государство становилось провинцией Ассирии. Так постепенно навязывалась соседям ассирийская модель государства.
Управление провинциями, невзирая на его жёсткость, не было произволом в отношении жителей, оно опиралось на общепризнанные принципы, и было восприимчивым к повседневным потребностям самой системы. Это был хорошо продуманный и организованный механизм управления, который заботился о людях исходя из соображений эффективности всей системы. Главными задачами управления были поддержание порядка, сбор налогов, обеспечение коммуникации. Для того чтобы обеспечить эффективную коммуникацию между центром и провинциями дорожная сеть в Ассирии была развитой, на дорогах располагались посты, на которых содержали лошадей или мулов для следующего перехода.
При Ашшурназирпале (883—859 до н.э.), внуке Адад-нирари II, империя процветала. Источники свидетельствуют лишь об одной военной кампании во время его правления, зато велись обширные ирригационные работы, была построена новая столица – Калах (сегодня – Нимруд), разбивались сады, строились и украшались храмы. На празднествах по поводу освящения новой столицы 70 тысяч человек гуляли десять дней. Так работала эффективная на тот момент модель государства.
В правление Салманасара III (858—824 до н. э.) Ассирия полностью контролировала торговые пути в Киликию и Малую Азию, обезопасила свои границы на Севере от Урарту. Могущество и размеры богатства помогли подчинить Вавилонию, и местный царь теперь стал союзником, хотя и вынужденным. Производство древесины в Ливане, железа в Малой Азии, серебра в горах Аманус – всё это теперь контролировал ассирийский владыка.
Ассирийцы активно использовали практику переселения народов на завоёванных территориях, применили её и к ремесленникам, которых массово переселяли в свои города из их родных мест. Это говорит о слабости собственных источников для производства элементов вещной группы в ассирийских городах, ведь основанием могущества империи был контроль над торговыми путями, а не внутренние источники отрицательного потока энтропии.
Антропосфера имеет отличительное свойство памяти, действующее по принципу blockchain, поэтому «для чего?» и «как доступно?» её элементов сохраняются в мироустройстве многих людей и забываются только в тот момент, когда теряют актуальность. Именно это свойство антропосферы проявилось в механизме транзита власти в Месопотамии. Символическая передача власти в Вавилонии осуществлялась раз в год. В Ассирии, предположительно, время царствования было ограничено тридцатью годами. Г. Саггс выдвигает гипотезу о том, что Салманасар III превысил этот срок, и в главных городах вспыхнуло восстание под предводительством Шамши-адада V (823—811 до н. э.), его сына. Он был не единственным наследником, претендовавшим на трон, поэтому после прихода к власти ему пришлось подавить восстание, которым руководил другой сын Салманасара III – Ашшур-данин-апли. Хотя победа была достигнута при помощи Вавилона, укрепившийся на троне Шамши-адад V покорил его.
Причины, по которым Шамши-адад V сделал это, не выявлены. Г. Саггс предполагает, что халдейские племена на юге Вавилонии могли мешать южным торговым путям Ассирии. Соглашаясь, добавим к этому когнитивный фактор. Убедившись в могуществе Вавилона в процессе борьбы за власть, Шамши-адад V мог предположить, обоснованно или нет, что помощь Вавилона может быть оказана тем, кто захочет свергнуть его. Предлагаемая теория связывает такие действия с интронизацией угрозы конкретным человеком (людьми). Интронизировав угрозу, которая вызывает когнитивный диссонанс, человек стремится её устранить. Метод устранения во всех случаях одинаков – адаптивная инверсия. В социальной сфере она означает физическое устранение людей, которые являются или кажутся её носителями. Устранение вавилонского царя можно объяснить с этих позиций, не забывая и об экономических причинах.
Для успешного государства всегда существуют угрозы II рода. Такой угрозой начиная с правления Шамши-Адада V для Ассирии было царство Урарту, которое со временем установило контроль над торговыми маршрутами из Северного Ирана и Малой Азии. Это вызвало беспорядки в Сирии, а в ассирийских городах, коллективная антропосфера которых зависела от этих торговых потоков, вспыхнули мятежи. В нашей теории это означает, что городское население отозвало своё «молчаливое согласие» с текущим воплощением модели государства. Правивший в это время Ашшур-нирари V был в 746 г. до н. э. убит, на смену ему пришёл Тиглатпаласар III (745 – 727 до н.э.).
Положение, в котором находилась страна, было незавидным. Потеря территорий вела к уменьшению коллективной антропосферы. Утрата контроля над Малой Азией лишила страну свободного доступа к металлам, в руках Урарту оказались области, поставлявшие в империю лошадей. Ослабление государства, в свою очередь, провоцировало внешние территориальные угрозы II рода: например, Израиль, воспользовавшись ситуацией, установил контроль над Дамаском. Поскольку «молчаливое согласие» населения было отозвано, требовалось создать новую модель государства, что и было сделано.
Тиглатпаласар III реорганизовал провинции, разделив их на районы. Чиновники, ими управлявшие, могли обращаться к царю непосредственно, хотя подчинялись губернатору. Некоторые провинции были уменьшены, чтобы не дать возможности губернаторам создать свои мини-государства, т.е. предотвратить сепаратизм. Система почтовых станций позволяла быстро доставлять сообщения и отчёты царю. В результате этих реформ царь стал полностью контролировать положение дел в стране.
Внешняя политика Ассирии веками состояла в том, чтобы по периметру своих границ иметь буферные царства. Если власти были лояльны и своевременно платили дань, империя защищала их всей своей мощью. Если нет – они постепенно становились ассирийскими провинциями. При Тиглатпаласаре III этот процесс больше всего проявился в беспокойной Сирии, коснулся он и Вавилона, восставшего после смерти Набу-насира, царя, лояльного Ассирии. В 729 г. до н.э. главный бог Вавилона Мардук официально признал Тиглатпаласара III правителем Вавилонии. По итогам правления Тиглатпаласара III империя заняла территорию от Персидского залива до Египта.
Саргону II (721—705 до н. э.) и его преемнику Сеннахерибу (704—681 до н. э.) пришлось всё своё царствование устранять угрозы II рода как внутренние, так и внешние. К первым относятся мятежи в Вавилонии и Сирии. В Вавилонии, главной мятежной силой были халдейские племена и их вождь Меродах Валадан. Халдеи не имели своей модели государства, лучшей, чем та, что была в Вавилонии при ассирийцах, поэтому вся их деятельность сводилась к разграблению вавилонских городов. Когда Саргон II всерьёз взялся за подавление мятежа, он был с радостью встречен вавилонянами. То же самое произошло и в начале правления Сеннахериба, но с той разницей, что последний не только отвоевал вавилонские города, но и провёл карательный рейд по территориям халдейских племён и, в 689 г. до н.э. стал именоваться «царём Шумера и Аккада» (юга и севера Вавилонии).
При преемнике Сеннахериба Асархаддоне (680 – 669 до н.э.) халдейские племена снова попробовали взбунтоваться. Однако ситуация для них была неблагоприятной: Элам, ранее их поддерживавший, теперь проводил лояльную, по отношению к Ассирии, политику. Восстания халдейских племён были быстро подавлены. В Вавилонии Асархаддоном проводилась примиренческая политика. Город отстраивался, среднестатистическая индивидуальная антропосфера горожан росла, «молчаливое согласие» вавилонян с действующей ассирийской моделью государства было настолько полным, что людям, уехавшим во время халдейских бунтов, возвращали имущество, если они могли подтвердить владение им.
В новоассирийский период торговля процветала. Успешные военные кампании и стабильные внутренние источники отрицательного потока энтропии этому способствовали.
Несмотря на внешнее благополучие, признаки кризиса были налицо. На западе и северо-западе империю потеснили скифы и вновь активизировавшиеся киммерийцы. В конце царствования Асархаддон лишился двух провинций. На северо-востоке был утрачен контроль над областями южнее оз. Урмия, снабжавшими империю лошадьми. Пытаясь компенсировать эту потерю, ассирийцы вторглись в Персию и более активно стали вмешиваться в дела набирающей силу Мидии.
Слабость Египта, которую обнаружили ассирийцы, подавляя бунты в Палестине, а также их традиционная политика обеспечения прогресса собственной антропосферы благодаря захвату чужой привела ассирийскую армию в 671 г. до н.э. в долину Нила, где она взяла Мемфис и установила контроль над Нижним Египтом. В 664 г. до н.э. Тануатнамон попытался вернуть себе контроль над Дельтой, но Ашурбаннипал (668 – 626 до н.э.), преемник Асархаддона не только восстановил господство Ассирии над Дельтой, но и захватил Фивы. Это был последний успех, потому что Асархаддон внёс важное изменение в модель государства.
За четыре года до смерти Асархаддон разделил империю между своими сыновьями – Ашшурбанипалом и Шамаш-шум-укином. Первый стал править Ассирией, второй – Вавилонией. После смерти отца оба принца приступили к исполнению обязанностей верховных правителей в своих областях. Хотя Шамаш-шум-укин и был царём Вавилонии, многие губернаторы не исполняли распоряжения, официально не подтверждённые Ашшурбаннипалом, царём Ассирии, так как они подчинялись именно ему. Сложившееся двоевластие сначала никому не мешало, поскольку давний недружественный сосед Элам снова стал проблемой для страны.
Ассирийцы захватили Элам в 655 г. до н.э. и поставили там «своего» царя. Как только угроза со стороны Элама была устранена, Шамашшум-укин начал готовить заговор. Вместе с «ассирийским» царём Элама в 652 г. до н.э. вторгшимся на север Вавилонии Шамаш-шум-укин начал мятеж, окончательно подавить который удалось только через четыре года. Элам, однако не успокоился и между 642 и 639 до н.э. ассирийцы прошли всю страну, опустошая её. Важным событием этого похода стало возвращение богини Наны из Урука, которую эламиты захватили полтора тысячелетия назад.
Враждебные отношения Вавилонии и Элама – пример, иллюстрирующий тезис об интронизации угрозы. Соперничая за господство в регионе обе страны интронизировали угрозу II рода, исходящую от соседа. Даже тогда, когда Вавилония стала частью Ассирии, претензии Элама к ней остались. Вавилония, ранее выигравшая в этом соперничестве, менее остро воспринимала угрозу и даже привлекала Элам для борьбы с другой, тоже давно интронизированной, угрозой II рода со стороны Ассирии, будучи уверенной, что ей удастся сохранить превосходство над Эламом. Угроза со стороны Ассирии в понимании мироустройства вавилонян была значительно смягчена в правление Асархаддона, но никуда не делась, поскольку при первой же возможности Вавилония стремилась отделиться от Ассирии. Это стремление подпитывалось сознанием жителей Вавилонии, в понимании мироустройства которыми хранились «для чего?» и «как доступно?» собственной модели государства времён Хаммурапи и вскоре им представилась возможность снова обратиться к ней.
Проблемы на северных границах Ассирии и усиление Мидии привели к тому, что страна потеряла источники, из которых в неё поступали металлы и лошади, а также пряности и драгоценности из Индии. Потеря контроля над торговыми путями всегда была для Ассирии экзистенциальной проблемой. Не стал исключением и этот период. После смерти Ашшурбаннипала в стране началась смута, в результате которой Набопаласар (626—605 до н.э.), стал сначала царём Вавилонии, а затем и всей Ассирии. Его сын, Навуходоносор II (605—562 до н.э.), стремился вернуть контроль над торговыми путями и постоянно сталкивался с Египтом в борьбе за финикийское и киликийское побережье. Это было тем более актуально, что вавилонские порты постепенно умирали.
Эффективная система управления государством, созданная ассирийцами, помогла Вавилонии в короткий срок возродить империю. При Навуходоносоре II нововавилонская империя выглядела даже сильнее ассирийской. Основы ассирийской административной политики не изменились, т.е. изменилась не модель государства, а только её воплощение.
Во время смуты местные власти и жречество получили большие полномочия. Усилению жречества способствовала модель государства в Вавилонии. Если в Ассирии царь благословлялся на правление один раз, то в Вавилонии это происходило ежегодно, что давало им возможность серьёзно влиять на принимаемые решения. Кроме того, почти все земли Вавилонии принадлежали главному храму Урука, сохранившиеся свидетельства, относящиеся к нововавилонскому периоду, преимущественно касаются храмовой торговли, а царь через специального храмового чиновника получал в своё распоряжение долю храмовых доходов.
Через семь лет после смерти Навуходоносора II его преемником стал Набонид (555—539 до н.э.), последний правитель нововавилонской империи. Он попытался решить две важнейшие, по его мнению, задачи – преодолеть экономические трудности и изменить религиозную антропосферу вавилонян. Религиозную антропосферу вавилонян изменить надо было потому, что их верховный бог Мардук не был представлен в пантеоне других бывших жителей Ассирии, ставшей теперь нововавилонской империей. Это вызвало у вавилонян сильное недовольство, которое было следствием того, что вавилоняне приняли несколько чуждую им ассирийскую модель государства. Недовольны были вавилоняне и тем, что их среднестатистическая индивидуальная антропосфера стала сокращаться. Причины упадка были как внутренними, так и внешними. Внутри страны масштабное строительство, особенно храмовое, отвлекало ресурсы от ирригационных работ, снижало урожайность. Не способствовали прогрессу коллективной антропосферы и войны, которые вели нововавилонские цари. Внешней причиной, ухудшавшей ситуацию, был контроль мидийцев над торговыми путями на севере и востоке.
Набонид стал в глазах подданных угрозой II рода, а мы помним, что люди такие угрозы устраняют путём адаптивной инверсии, которая часто принимает форму убийства. Набонид принял неординарное решение – он перенёс столицу на запад. По прошествии десяти лет он смог безопасно вернуться в Вавилонию, где внутренняя ситуация успокоилась, а старый противник Элам снова напал на страну. Но не Элам, а персы, возглавляемые Киром, были главной внешней угрозой II рода. Кир, благодаря политике веротерпимости, завоевал расположение многих вавилонян, неготовых отказаться от своей религиозной антропосферы, т.е., в отличие от Набонида, не ими был интронизирован как угроза II рода. Кир вёл умелую пропаганду среди жителей Вавилонии и когда он вторгся в её пределы, они встретили его как избавителя и стали его подданными. Способствовал этому и конфликт интересов между светской и жреческой властью, поэтому с особым энтузиазмом Кира встретило жречество. Кир назначил нового губернатора, а его сын, Камбис, получил власть от Мардука во время новогодних празднеств в Вавилоне. Модель государства осталась прежней, изменился лишь её главный субъект. Так закончилась история самостоятельных государств на территории Месопотамии.