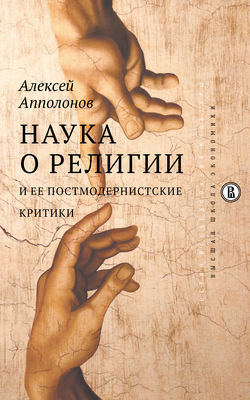Читать книгу Наука о религии и ее постмодернистские критики - Алексей Апполонов - Страница 5
I. Карл Барт
2. Карл Барт: «снятие» религии
ОглавлениеДля лучшего понимания этих идей Барта необходимо хотя бы в общих чертах рассмотреть ситуацию, сложившуюся в протестантской теологии к началу XX в. Как уже говорилось в Предисловии, отношение христианской теологии к научному религиоведению с самого начала было в общем враждебным; однако в протестантских землях Германии сложилась совсем другая ситуация. Либеральный протестантизм в лице своих наиболее выдающихся представителей (Д. Штраус, А. Ритчль, А. Гарнак, Э. Трёльч и др.) отнесся к новой науке о религии настолько сочувственно, насколько это вообще было возможно[55]. Такой подход, предполагавший (в теории) стирание границ между научным изучением религии и теологией, в общем и целом нашел понимание в интеллектуальных кругах Европы и стал своего рода визитной карточкой немецкоязычной теологии. А. Швейцер (с явно излишним, на мой взгляд, пафосом) утверждал в 1906 г., что «в будущем, когда грядущие поколения смогут рассматривать наш период цивилизации как некое единое и законченное целое, станет ясно, что немецкая теология является величайшим, уникальным феноменом интеллектуальной и духовной жизни нашего времени. Ибо только в Германии обнаруживается ныне столь совершенным образом живой комплекс условий и факторов: философской мысли, критической проницательности, исторической интуиции и религиозного чувства»[56]. Однако, как весьма точно заметил А. Н. Красников:
Столь тесное, на первый взгляд, взаимодействие либеральной теологии и религиоведения в Германии не устранило противоречия между ними. Это противоречие проявлялось не только в институциональной сфере, оно было перенесено в сами теологические доктрины. Когда немецкие теологи желали быть беспристрастными исследователями религии, они переставали быть теологами в прямом смысле этого слова, если же они оставались на позициях христианской теологии, то они переставали быть объективными учеными. Пытаясь разрешить это имманентное противоречие, протестантские теологи были вынуждены прибегать к смягчению теологических и научных идеалов, к размыванию границ между ними, что явилось одной из причин кризиса либеральной теологии[57].
У этого кризиса была и другая причина: некоторые теологи начали понимать, что с течением времени либеральная теология все больше утрачивала свою собственно христианскую теологическую составляющую; возникла опасная для самых основ веры ситуация, когда Religionswissenschaf именно как Wissenschaf, то есть человеческая наука, начинала диктовать теологии как учению о Боге, что считать истинным, а что ложным. В 1922 г. Барт (который еще недавно сам склонялся к либеральной теологии) отреагировал на эту ситуацию публикацией новой, второй редакции своего комментария к Посланию к Римлянам, которая стала вехой в истории западной теологии, заложив основы «неоортодоксии». В этой же работе Барт впервые представил в развернутом виде свои идеи по поводу «естественной человеческой религиозности» и христианской религии. В религии – той самой, о которой так много говорила либеральная теология, пытавшаяся стать «наукой о религии», – Барт не обнаружил ничего, кроме греха, смерти, нечестия и безбожия, а также человеческого самодовольства и самоуверенности[58]. Однако, отдав должное критике религии с позиции Фейербаха (и даже Маркса), Барт отмечает, что хотя христианская религия как таковая не может привести человека к Богу, она «приводит нас в то место, где мы должны ждать встречи с Ним». «Нет» религии превращается в божественное «Да» в тот момент, когда религия как последняя «данность» (Gegebenheit) «снимается» благодатью откровения, а потому человек не может избежать религии и не должен стремиться заменить ее чем-то другим[59]. Парадоксальный характер этой идеи довольно точно зафиксировал Г. Грин: Барт устанавливает «приоритет откровения над религией, не отрицая религиозной природы откровения»[60].
В «Церковной догматике» Барт в значительной степени развил и дополнил эту свою концепцию, а заодно детально проработал вопрос о взаимоотношениях религии и откровения, «науки о религии» и христианской теологии, разума и веры. Согласно Барту, человек как таковой всегда был, есть и будет религиозным:
Насколько можно судить, человеческая культура в общем и человеческое существование в частности всегда и везде соотносились людьми с чем-то предельным и окончательным… как культура, так и существование человека детерминировались (хотя бы частично) почтением перед чем-то явственно бóльшим, перед чем-то Иным (даже совершенно Иным), относительно Высшим (даже абсолютно Высшим)… Где и когда человек не осознавал своего долга поклоняться Богу или богам в форме того или иного конкретного культа: создавая изображения или символы божества, принося жертвы, каясь, молясь, учреждая традиции, игрища и таинства, формируя общины и церкви?[61]
Религия, таким образом, является универсальным феноменом, и прилагательное «христианский» в случае «христианской религии» есть не более чем предикат при субъекте, который может иметь и другие предикаты («буддистская», «иудейская», «мусульманская» и т. д.). Более того, Барт настаивает на том, что отрицание этого факта ведет к отрицанию божественного откровения, которое есть «судящее, но также и примиряющее присутствие Бога в мире человеческой религии» и которое осуществляется через излияние Духа Святого[62]. Дело в том, что откровение есть событие, которое происходит с человеком. Источником откровения является Бог (и Бог же является основанием возможности того, что человек воспримет откровение – Барт категорически не допускает «субъектности» человека в его отношениях с Богом[63]), но в любом случае это событие хотя бы отчасти «обладает формой человеческого состояния, опыта и деятельности», «а также видом и чертами человеческого, исторически и психологически схватываемого феномена»[64]. И, будучи таким человеческим феноменом, религия как таковая (это относится и к христианской религии, конечно) предстает – в сравнении с откровением – как Unglaube, неверие, и, соответственно, как грех. «Грех – это всегда неверие. А неверие – это вера человека в самого себя… И эта вера есть религия»[65].
В религии человек, как пишет Барт, замахивается на то, чтобы то, чтобы самостоятельно постичь Бога. Но это самонадеянная и притом бессмысленная попытка: согласно Барту, Бог – абсолютно Иной, и если Он сам не сообщит о себе в своем откровении, то пытаться постичь Его бесполезно (и не только бесполезно, но и вредно: как пишет Кальвин, которого с одобрением цитирует Барт, «они не воспринимают Бога так, как Он предложил себя, но воображают себе как Бога то, что сами создали произвольным образом»[66]).
Таким образом, более или менее ясно, что хочет сказать Барт, когда говорит о религии как о неверии. Взаимоотношения религии и откровения напоминают отношения падшего человека и божественной благодати в традиционной кальвинистской трактовке. Сам по себе, без божественной благодати, падший человек не способен ни к каким благим действиям; точно так же без благодати откровения любая религия (в том числе христианская) есть «неверие, идолопоклонство, самоуверенность».
Если, говоря об «истинной религии», мы имеем в виду истину, которая принадлежит религии как таковой, религии самой по себе, то это понятие столь же некорректно, как и понятие «благой человек», если под благостью человека понимается то, чего человек достигает при помощи своих собственных возможностей. Она может только стать истинной – постольку, поскольку начнет соответствовать тому, на что она претендует и что отстаивает. И она может стать истинной лишь в том же самом смысле, в каком оправдывается человек, то есть благодаря чему-то такому, что приходит извне… что приходит к нему вне зависимости от его собственных качеств или заслуг[67].
Стать истинной христианская религия может только благодаря тому, что «снимается» откровением, которое как бы принимает ее в себя. Однако – и это крайне важно для понимания концепции Барта – откровение «снимает» и «принимает в себя» христианскую религию вовсе не потому, что в ней самой есть что-то, благодаря чему она принципиально превосходит все остальные религии. «Мы не можем слишком настойчиво подчеркивать связь между истиной христианской религии и благодатью откровения», – пишет Барт[68]. Почему? Потому что как Бог оправдывает человека вне зависимости от его заслуг (которых у того просто не может быть до оправдания), так и христианская религия «снимается» божественной благодатью исключительно потому, что этого хочет Бог; соответственно, христианство как таковое не занимает какого-то особого привилегированного положения в мире религий (которое обеспечивало бы, так сказать, его связь с откровением). Бог исключительно по собственному усмотрению избрал время и место для своего откровения, равно как он исключительно по своему усмотрению избирает людей, составляющих Церковь Христову, которая есть «место истинной религии». Это избирание и оправдание и, соответственно, становление христианства в качестве истинной религии происходит постоянно:
Если мы начнем говорить о христианской религии как о реальности, нам будет недостаточно просто обратиться к прошлому, к моменту ее сотворения, и к ее историческому бытию. Нам надо будет думать о ней так же, как о своем собственном существовании и о существовании мира; как о реальности, которая была сотворена и творится Иисусом Христом: вчера, сего дня и завтра. Вне акта своего сотворения именем Иисуса Христа, каковое творение относится к типу creatio continua (постоянного сотворения), и, следовательно, вне Творца она не имеет реальности[69].
Исходя из этой общей картины отношения религии и откровения, легко понять претензии Барта к либеральному протестантизму. Главный недостаток протестантской теологии начала XX в. (повлекший, по мнению Барта, более чем серьезные последствия для христианской Церкви и веры) заключается вовсе не в фиксации того факта, что христианство – по крайней мере, в некоторых своих аспектах – является религией, такой же, как и другие. Главная проблема в том, что протестантская теология – в виде либерального протестантизма – потеряла всякий интерес к божественному откровению как к своему специфическому и собственному предмету и практически всецело погрузилась в сферу человеческой религии.
55
В связи с этим весьма примечательно замечание Э. Трёльча, который полагал, что попытки отделить «религиозную веру» от «научной деятельности» разрушительны для культуры, а потому «различные источники знания надлежит некоторым образом объединить и гармонизировать» (Troeltsch E. Writings on Theology and Religion. L., 1977. P. 57). При этом он считал, что возглавить этот процесс должны «ученые и профессора» (Ibid. P. 199).
56
Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tübingen, 1984. S. 45.
57
Красников А. Н. Указ. соч. С. 23.
58
Barth K. Der Römerbrief. Zürich, 1989. S. 237.
59
Barth K. Der Römerbrief. S. 244.
60
Green G. Challenging the Religious Studies Canon: Karl Barth’s Theory of Religion // The Journal of Religion. 1995. Vol. 75. P. 479.
61
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. Zürich, 1975. Bd. 1. Hbd. 2. S. 307.
62
Ibid. S. 304.
63
В связи с этим более чем показательны следующие слова Барта: «Единственная предельная и действительная серьезная определенность для верующего – та, которая исходит от Иисуса Христа. Строго говоря, верующий больше не является субъектом: в своей и вместе со своей субъективностью он становится предикатом к субъекту – Иисусу Христу, благодаря Которому он оправдывается и освящается, от Которого он получает указания и утешение» (Ibid. S. 342).
64
Ibid. S. 305.
65
Ibid. S. 343.
66
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 331.
67
Ibid. S. 356.
68
Ibid. S. 324.
69
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 380.