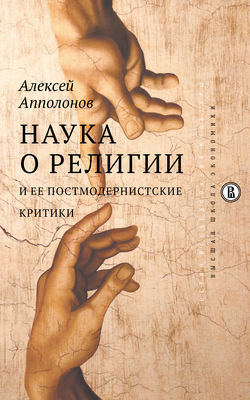Читать книгу Наука о религии и ее постмодернистские критики - Алексей Апполонов - Страница 6
I. Карл Барт
3. Карл Барт: «Естественная религия» и исторические корни «катастрофы» либерального протестантизма
3.1. Концепция
ОглавлениеСобственно, до этого момента Барт остается в рамках обычной для конца XIX – начала XX в. парадигмы: религия есть универсальный феномен sui generis, она является человеческим, а не божественным феноменом и вполне адекватно исследуется наукой о религии. Да, у Барта к этому добавляется определенная специфика: по его мнению, христианская религия отлична от других – она является истинной религией и становится таковой благодаря тому, что «снимается» божественным откровением. Но в этом его подходе также нет ничего принципиально нового, кроме разве что оригинального и сугубо кальвинистского по своей сути способа утверждения и объяснения «особенности» христианской религии.
Однако Барт на этом не останавливается. Христианство, говорит он, далеко не всегда было «религией» в указанном смысле. Точно так же и протестантская (и шире – христианская) теология отнюдь не всегда тяготела к науке о религии. Чтобы показать это, Барт предпринимает специальное историческое исследование, о котором мне хотелось бы сказать более подробно – поскольку некоторые его результаты легли в основу «религиоборчества» более поздних авторов.
Исследование Барта начинается с краткого рассуждения о Средних веках. По мнению швейцарского теолога, Фома Аквинский, хотя иногда и писал о religio Christiana как об объекте теологии, но «даже и не помышлял ни о какой христианской религии»[70]: ему, как и любому средневековому католическому теологу, было совершенно чуждо «понятие религии, как общее понятие, которое объемлет христианскую религию, как и все прочие»[71]. Барт полагает, что «религия» и «христианство» в ту эпоху были безусловно тождественны друг другу. Те положения христианской религии, которые относятся к ее «человеческой» составляющей, никогда не рассматривались средневековыми авторами в отрыве от христианской жизни. Иначе говоря, они вычленялись ими (скажем, в рамках естественной теологии) не как особые элементы человеческой религиозности «вообще», но исключительно как элементы религиозной жизни христианина в благодати.
В этом отношении ничего не изменилось и с началом Реформации: Жан Кальвин, говоря о religio Christiana, и не помышлял о том, чтобы сделать прилагательное Christiana предикатом «чего-то человеческого в нейтральном и универсальном смысле… для него religio являлось сущностью Х, которая получает содержание и форму только тогда, когда она эквивалентна христианству, то есть постольку, поскольку откровение принимает его в себя и оформляет по своему образу»[72]. Те же самые идеи (с незначительными вариациями) Барт приписывает ранним представителям протестантской схоластики, приводя в качестве иллюстрации следующие слова Аманда Полануса (1561–1610): «В собственном смысле слова существует только одна истинная религия, а остальные не существуют, но лишь называются таковыми»[73].
Катастрофа – именно это слово использует Барт – произошла в результате деятельности Соломона ван Тиля (1643–1713) и Иоганна Франца Буд деуса (1667–1729). Благодаря творчеству этих теологов рождается концепция «естественной религии» (как некоего минимума религиозных представлений, свойственного всем (или почти всем) известным религиозным учениям). Она определяется как объект «естественной теологии» – учения о Боге, достигаемого «средствами естественного разума», вне и независимо от божественного откровения. Именно так, по мнению Барта, возник либеральный протестантизм, или неопротестантизм, важнейшей характеристикой которого является то, что в нем не религия постигается в свете откровения, но откровение – в свете «человеческой религии». Начиная с Буддеуса и ван Тиля, полагает Барт, протестантские теологи постоянно подходят к откровению с рациональными, человеческими мерками. Таким образом, человеческий разум выносит суждение об откровении («судит откровение»), а это, согласно Барту, есть самовозвеличивание человека и в конечном счете грех неверия. В принципе неважно, с чем именно соотносится библейское учение: с «естественной религией» Буддеуса и ван Тиля, с этической системой И. Канта или, скажем, с библейской критикой Д. Ф. Штраусса. Либеральная теология во всех этих случаях проявляет колебания в самой сущности веры:
В своей теории и в своей практике она перестала рассматривать важнейшие положения лютеранского и хайдельбергского исповедания как непререкаемые аксиомы. Исходно и преимущественно грехом было неверие, умаление Христа… когда мы начали тайно тяготиться Его владычеством и Его утешением. Не отрицая положения катехизиса, эта теология считала, что ее задача заключается в том, чтобы рассмотреть человека с некоей точки зрения, отличной от точки зрения царства и владычества Христа[74].
Как научное религиоведение должно относиться к бартовской теории религии? Может ли эта теория рассматриваться как научная, хотя бы в некоторой степени? Ответ достаточно очевиден. Даже в первом приближении ясно, что предложенная Бартом концепция религии является теологической: он писал как христианский теолог и для христианской аудитории, то есть исходил из принципов, имманентных христианскому вероучению как таковому. Собственно, сам Барт неоднократно указывал на это, говоря, например, о том, что его задачей является «теологическая оценка религии и религий»[75]. При этом данная оценка предполагает, что «человек рассматривается и познается как субъект религии со всей серьезностью», но «это не должен быть человек, обособленный от Бога, человеческое существо само по себе; это должен быть человек, для которого (неважно, знает он сам об этом или нет) родился, умер и воскрес Иисус Христос; это должен быть человек, к которому обращено Слово Божие (неважно, слышал он его или нет); это должен быть человек, для которого (неважно, осознает он это или нет) Христос является Господом»[76].
Равным образом совершенно очевидно, что в компетенцию научного религиоведения не входит вопрос о том, является ли христианство религией, «снятой» и «вознесенной» божественной благодатью, или не является; научное религиоведение может только констатировать, что ее считают таковой Барт и его последователи. Кроме того, едва ли можно сомневаться в том, что сам Барт никогда бы не согласился с тем, чтобы его концепции был придан научный статус – ведь это значило бы, что христианство рассматривается и оценивается с позиции науки, и сам этот факт сделал бы его обычной религией, одной из многих[77]. Таким образом, теория религии Барта никоим образом не является научной теорией: она относится не к научному религиоведению, не к философии религии, но к «теологии религии», что совершенно справедливо отмечает, например, Джозеф Ди Нойя[78].
Имеются, однако, и другие вопросы, ответы на которые крайне важны для настоящей работы. Насколько корректны исторические изыскания, проведенные Бартом? Действительно ли трансформация понятия «религия» происходила в соответствии с представленной в «церковной догматике» схемой? Можно ли утверждать, что именно творчество ван Тиля и Буддеуса стало своего рода отправным пунктом для либеральной протестантской теологии? И наконец, самое главное: верно ли утверждение Барта о том, что концепции «христианской религии» и «естественной теологии» (по крайней мере в том виде, в каком они представлены у ван Тиля и Буддеуса) абсолютно чужды европейскому Средневековью?
Итак, рассмотрим более подробно «естественную религию» и другие «опасные новшества», которые, по мнению Барта, внедрили в протестантскую теологию Соломон ван Тиль и Иоганн Франц Буддеус, в результате чего протестантизм постигла упомянутая выше «катастрофа». Для удобства изложения я разделил текст Барта на отдельные тезисы и пронумеровал их следующим образом.
1. Соломон ван Тиль и Иоганн Франц Буддеус первыми сформулировали концепцию «естественной религии». Изложение церковной догматики (речь идет прежде всего о таких работах, как «Компендий обеих теологий» ван Тиля и «Установления догматической теологии» Буддеуса) теперь начинается с представления и описания «общей, естественной и нейтральной религии», которая является «предпосылкой» всех прочих религий.
2. «Естественная религия» опирается на естественный разум и является «определенным человеческим усердием» (certum hominum studium). Согласно «убежденному картезианцу» ван Тилю, «началом, от которого естественная религия должна получать доказательную силу касательно того, что относится к Богу и Его культу, является свет разума», а сама «естественная религия» есть «определенное человеческое усердие», «коим любой по своему разумению направляет свои способности к созерцанию и поклонению определенному божеству, насколько считает это для себя подобающим, чтобы это божество ответило ему при случае благосклонностью»[79].
3. «Естественная религия» разворачивается в «естественную теологию», которая является основанным на естественном разуме учением о природе и атрибутах Бога, о Его отношении к миру и т. д. Буддеус утверждает, что человек и без откровения может обладать знанием о бытии «высшего существа», а также о том, что это существо: а) соединяет совершенство знания, мудрости и свободы; б) является вечным и всемогущим, совершенно благим и правдивым, истинным и святым; в) является предельной причиной и руководящим принципом вселенной; г) является высшим благом человека; д) открывает перед ним путь к бессмертию души и обретению высшей награды; по этому е) человек должен подчиняться этому существу и исполнять определенные обязанности по отношению к нему самому и к своим ближним. Все таковое может быть познано «без особого труда», ведь «разум прекрасно научает всех людей, а эти [положения] соединяются друг с другом таким образом, что если некто опытен в рассуждении и наделен здравым умом, то он, как только помыслит таковое, тут же с ним соглашается»[80].
4. При этом Буддеус и ван Тиль предупреждают о недопустимости «смешения начал разума и веры»; одной «естественной религии» для спасения недостаточно, человек нуждается также и в божественном откровении. Согласно Буддеусу, знание «естественной религии» о Боге не распространяется на вечное спасение, поскольку человек, даже постигая – благодаря своему естественному разуму – все то, что сообщает ему естественная теология, не имеет сверхъестественных (благодатных) средств, которые позволили бы ему вступить в общение с высшим благом, Богом. Соответственно, «естественная религия» должна дополняться откровением.
5. С другой стороны, именно «естественная религия» оказывается критерием оценки всех прочих религий и даже божественного откровения. Согласно Буддеусу, «естественная религия» содержит notiones (понятия), которые суть «основы и начала любой религии». Именно благодаря этим notiones мы можем распознавать «религии, которые опираются на откровение». Откровение не может противоречить разуму, поэтому то, что противоречит этим «понятиям естественной религии», либо не является откровением, либо является неправильно понятым откровением. У ван Тиля естественная теология «достигает своей кульминации» в учении о praeparatio evangelica («предуготовлении к Евангелию»), в котором: 1) из преамбул и данных естественной религии логически постулируется необходимость примирения Бога и человека; 2) опять-таки из начал естественной религии выводятся условия этого примирения; 3) наконец, сравниваются друг с другом религии еретиков, иудеев, мусульман и христиан, причем показывается, что христианская религия отвечает выведенным условиям и, соответственно, признается богооткровенной религией.
Далее Барт заключает:
Это и есть программа ван Тиля и Буддеуса… Человеческая религия, отношение с Богом, которым мы можем обладать и актуально обладаем независимо от откровения, есть не неизвестная, но вполне известная величина – как в том, что касается формы, так и в том, что касается содержания; и как таковая она есть нечто, что следует признать имеющим центральное значение для любого теологического мышления. Она фактически образует предпосылки, критерии, необходимый аппарат для понимания откровения. Она демонстрирует нам вопрос, на который отвечают все положительные религии (включая религию откровения), и при этом оказывается, что христианская религия, как наиболее удовлетворительный ответ на этот вопрос, обладает преимуществами перед другими религиями, а потому по праву должна называться богооткровенной. Христианский элемент теперь действительно стал предикатом нейтрального и универсального человеческого элемента, а вместе с этим завершилась и теологическая переориентация, которая угрожала еще со времен Ренессанса[81].
70
Ibid. S. 310.
71
Ibidem.
72
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 310.
73
Ibidem.
74
Ibid. S. 320.
75
Ibid. S. 323.
76
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 323.
77
Принципиальное отличие своего подхода от научного Барт описывает так: «“Чистая” наука о религии – та, которая никоим образом не претендует на то, чтобы быть теологией» (Ibid. S. 321). С этим его замечанием трудно не согласиться.
78
The Cambridge Companion to Barth. Cambridge, 2000. P. 243.
79
Til S. van. Theologiae utriusque compendium. Lugduni Bata-vorum, 1704. Vol. I. P. 2.
80
Buddeus I. F. Institutiones theologiae dogmaticae. Francofurti et Lipsiae, 1791. P. 9–10.
81
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 315.