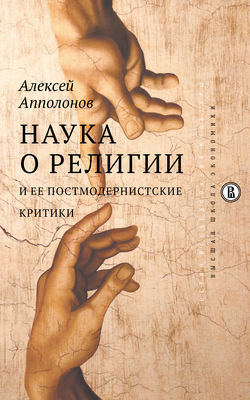Читать книгу Наука о религии и ее постмодернистские критики - Алексей Апполонов - Страница 8
I. Карл Барт
3. Карл Барт: «Естественная религия» и исторические корни «катастрофы» либерального протестантизма
3.3. «Через рассматривание творений видимы»
ОглавлениеСуровый, бескомпромиссный и последовательный кальвинизм Барта, о котором шла речь в предыдущем разделе, может вызывать уважение (или, наоборот, неприязнь[105]); но совершенно очевидно, что при рассмотрении вопросов, связанных с историей христианской теологии, ученый-религиовед должен рассматривать эти личные теологические пристрастия Барта как тот фактор, который мог оказать (и действительно оказал) губительное воздействие на объективность его суждений. Отсутствие этой объективности просто показать на примере уже упомянутого Иоганна Вильгельма Байера. Барт пишет, что у него «ни материально, ни формально откровение не соотносится с религией»[106]; поэтому Байер оценивается им как верный продолжатель традиции Реформации. Но у самого Байера мы читаем:
В естественной теологии средства достижения блаженства суть действия ума и воли, обращенные к Богу, посредством коих Бог познается и почитается должным образом; и они именуются одним словом «религия». Они содержатся в естественном, или нравственном, законе, и частично направлены непосредственно на Бога; частично – на человека (на себя самого или на ближнего), а затем на Бога[107].
Далее Байер указывает, что «естественная теология, как в отношении своих начал, так и в отношении своих заключений, которые из них выводятся, совершенно истинна и достоверна и не противоречит истинной богооткровенной теологии»[108]. Затем он упоминает о том, что специально рассматривал отношение естественной и богооткровенной теологии на диспуте, прошедшем в 1676 г.[109] Наконец, он использует естественную теологию для доказательства, например, существования Бога: «Существование Бога можно доказать из рассмотрения этого универсума, из свидетельства совести, из согласия народов, как языческих, так и христианских»[110].
Совершенно очевидно, что в «Компендии» Байера присутствуют все те элементы, которые однозначно осуждаются Бартом как несовместимые с христианской теологией. Тут и «естественная религия» («теология»), которая «совершенно истинна и достоверна», и «свет природы», на который она опирается[111], и даже «совесть», из свидетельств которой выводится существование Бога[112]. Почему же тогда Байер оказывается для автора «Церковной догматики» представителем подлинной традиции Реформации (как он ее понимает)? Хотя на этот вопрос нелегко дать однозначный ответ, возможно, все дело в том, что Байер слишком близок по времени к Лютеру и Кальвину, поэтому, если начать отсчет «либерального протестантизма» уже с него, то будет в принципе трудно говорить о такой вещи, как «традиция Реформации».
На самом деле в парадигме Барта, если рассматривать ее объективно и последовательно, единственными «правильными» христианскими теологами из известных исторических фигур можно считать разве что Лютера, Кальвина и, возможно, Кьеркегора (которым Барт увлекался в молодости и который, несомненно, оказал на него сильное влияние). Даже совсем не склонный к естественной теологии Тертуллиан с его максимой о том, что человеческая душа – по природе христианка, выглядит сомнительно (что значит «по природе»? нет ли здесь соотнесения человеческого с божественным?). А первым исказителем христианской теологии в этой парадигме должен, безусловно, считаться Климент Александрийский (ок. 150 – ок. 220), который писал нечто прямо противоположное Кальвину: «Прекраснейшей и важнейшей из всех наук несомненно является самопознание. Потому что кто сам себя знает, тот дойдет до познания и Бога»[113].
Поскольку данный вывод может показаться кому-то слишком резким (например, могут возразить, что Барт очень высоко ценил Ансельма Кентерберийского и даже в некотором смысле считал его своим учителем в теологии), приведу в подтверждение своих слов следующий показательный, на мой взгляд, пример. В «Кратком толковании Послания к Римлянам» Барт комментирует в том числе эти слова апостола: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:19–21). И его комментарий таков:
Если бы стихи 19–21 дошли до нас сами по себе, возможно, как фрагмент, вырванный из контекста произведения неизвестного автора, то вполне можно было бы прийти к предположению, что здесь идет речь о «естественном», то есть предшествующем откровению Божьему в Иисусе Христе и самостоятельном по отношению к нему познании Бога язычниками. Это место часто и прочитывали именно как подобного рода фрагмент, а потому оно и в самом деле рассматривалось и приводилось в качестве доказательства общего учения о таком естественном богопознании. Из столь странной предпосылки делали слишком далекоидущие выводы[114].
Кто именно делал эти «далекоидущие выводы» из «столь странной предпосылки», Барт не сообщает. Но в любом случае очевидно его негативное отношение к данным персонам: ведь налицо та самая естественная теология, которую, согласно Барту, необходимо изгнать из христианского учения. Между тем такая «естественно-теологическая» трактовка – общее место средневековой католической схоластики, и едва ли можно найти средневекового автора, который, комментируя эти слова апостола, понимал их как-то иначе.
Вот, например, как интерпретировал соответствующие стихи в своем «Комментарии к Посланию к Римлянам» Фома Аквинский:
Во-первых, [апостол показывает], что они [язычники] познавали Бога; во-вторых, он показывает, от кого они получили это познание (там, где сказано: «потому что Бог явил им»); в-третьих, он показывает, каким способом они это познали (там, где сказано: «Ибо невидимое Его»). И, во-первых, он прямо говорит, что они обладали божественной истиной, ведь в них было в некоторых аспектах истинное знание о Боге, ибо «что можно знать о Боге» (то есть то, что может быть познано о Боге человеком при помощи разума), «явно для них» (то есть очевидно им благодаря тому, что есть в них, то есть благодаря внутреннему свету)… Итак, следовательно, Бог явил им, либо излияв внутренний свет, либо расположив вовне видимые творения, в которых, как в некоей книге, они читали знание о Боге… Однако, как говорят, [философы] ошиблись в третьем знаке, то есть в Духе Святом, поскольку не полагали ничего соответствующего Ему так, как они полагали нечто, соответствующее Отцу, то есть первоначало, и нечто, соответствующее Сыну, то есть первый тварный ум, который они называли разумом Отца, как говорит Макробий[115].
Практически то же самое можно обнаружить у Бонавентуры, который в своих «Комментариях к “Сентенциям” Петра Ломбардского» интерпретирует стих 20 так:
Следовательно, человек мог постигать разумом ума или созерцать невидимое Божие «через рассматривание творений», видимых или невидимых. И в этом ему помогали две вещи: его природа, которая разумна, и деяния Божьи, которые были содеяны, чтобы явить человеку истину… И вот еще как они, ведомые разумом, могли познать и даже познавали Бога. Августин говорит в книге «О граде Божием»: «Наиболее выдающиеся философы видели, что никакое тело не является Богом, а потому в поисках Бога устремлялись за пределы телесного. Они видели также, что ничто изменчивое не является высшим Богом и началом всего, а потому устремлялись [в своих поисках] за пределы любой души и любого изменчивого духа; далее, они видели, что все, что изменчиво, может происходить только от Того, Кто неизменен и прост. Следовательно, они постигали, что Он и создал все таковое, и сам не мог быть создан ничем другим»[116].
В этих двух фрагментах представлена вся средневековая традиция толкования Послания к Римлянам – от Августина до Фомы Аквинского и Бонавентуры. Подавляющее большинство средневековых теологов признавали, что человек может обладать знанием о Боге до и вне откровения, данного в Иисусе Христе. Да, это знание неполно и касается лишь «некоторых аспектов»; самое главное, это не спасительное знание. Но ведь и ван Тиль писал о том же и специально подчеркивал, что вне истинного откровения нет спасения. Таким образом, не существует никакой принципиальной разницы между позицией ван Тиля и позицией, скажем, Фомы Аквинского. Кроме того, Барту следовало бы уточнить: «слишком далекоидущие выводы» из «странных предпосылок» об «общем учении о естественном богопознании» делались Бонавентурой, Фомой Аквинским и другими средневековыми теологами. Однако, как и в других подобных случаях, Барт предпочел не заметить неудобных для него фактов.
105
К. Армстронг, например, так характеризует эту позицию Барта: «Швейцарский богослов Карл Барт (1886–1968) решительно воспротивился либеральному протестантизму Шлейермахера с его повышенным интересом к религиозным переживаниям. С другой стороны, Барт был и видным противником естественного богословия. По его мнению, пытаться изъяснить Бога рациональными концепциями – большая ошибка, и не только по причине ограниченности человеческого ума, но и потому, что люди испорчены Грехопадением. Следовательно, любое представление о Боге, складывающееся в уме человека, изначально таит в себе изъян, и поклонение такому божеству оказывается идолопоклонством. Единственный надежный источник познаний о Боге – Библия. Идеология Барта вместила, пожалуй, худшее из всего, чем когда-либо грешило богословие: прочь переживания, прочь естественный рассудок; человеческий ум слишком испорчен и доверия не заслуживает, а у других религий научиться ничему нельзя, ибо единственное достоверное откровение – это Библия. В совмещении столь радикального скептицизма по отношению к силе разума и совершенно некритического признания истин Священного Писания было что-то нездоровое» (Армстронг К. История Бога. М., 2011. С. 420–421).
106
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. S. 311.
107
Baierus G. I. Op. cit. P. 13 (курсив мой. – А. А.).
108
Ibid. P. 18.
109
Ibid. P. 19.
110
Ibid. P. 143.
111
«Lumine naturae… nititur» (Ibid. P. 5).
112
Как уже отмечалось выше, Барт писал о Венделине, что он «не виновен в выведении понятия vera religio из conscientia (совести)», а потому «сформулированное им понятие является полностью объективным и безусловно христианским». Однако Байер, как мы видим, вполне «виновен» в этом.
113
Климент Александрийский. Педагог. М., 1996. С. 213. Сравните эту фразу с приведенной выше максимой Кальвина: «Известно, что человек никогда не достигнет верного знания о себе самом, пока не увидит лика Бога и от созерцания его не обратится к созерцанию самого себя».
114
Барт К. Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам. М., 2010. С. 22.
115
Tommaso d’Aquino. Commento al Corpus Paulinum (expo-sitio et lectura super epistolas Pauli apostoli). Vol. 1: Lettera ai romani. Bologna, 2005. Р. 124–126.
116
Sanctus Bonaventura. In primum librum Sententiarum // Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S. R. E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. Ad Claras Aquas, 1882–1902. Vol. 1. Р. 62–63 (курсив мой. – А. А.).