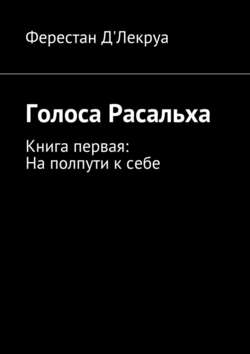Читать книгу Голоса Расальха. Книга первая: На полпути к себе - Ферестан Д'Лекруа - Страница 7
Голос первый. Цепи зла
Часть четвёртая. Ветер за всё в ответе
Оглавление…У Бога мёртвых нет
И нас у смерти нет.
Сергей Рипмавен. Хроники судьбы
Третью ночь в одинокой квартире, как в одиночке. Здесь поместились бы целые роты, но бродят лишь легионы… мыслей. Боюсь, так и останутся невысказанными, непрочитанными письма, идущие по проводам каждую минуту по десять граммов. Выспаться бы хоть раз, только часы не дают, звонко бьют в потолок каждый убитый час, и телефон… всё звенит, кто-то ошибается, в сотый раз набирая мой номер вместо номера некой Полины. Вот такое одиночество— в собственной огромной, как мир, квартире.
«Вавилон». Планетарная система Чиар
В доме страшно и темно. Особенно когда ты один. Может, чуть отступает страх, например, если ты видишь в темноте или если ты – кот. Может становиться только страшнее, если ты человек – ребёнок. Но всем и всегда не по себе, если ты один.
Квартира не была большой – шесть на восемь мер комнаты простиралось порой так далеко, что, уходя в путешествие в дальний конец комнаты, по возвращении можно было найти горстку или холм пыли на оставленном на кровати пледе. Иногда пыль кто-то счищал, а сам плед складывал ровным прямоугольником и убирал под фиолетовую подушку, по которой путешествовал рисунок мальчишки и старика на сине-стальном шарике-планете. Тогда Мартин знал, вернее, догадывался – что приходила мама, но опять не застала его. Не застала и ушла по своим делам, оставив ему – Мартину – напоминание о своей заботе, о своём сыне. В таких случаях Мартин рывком выдергивал плед из-под подушки. Подушка иногда сваливалась с кровати, и мальчик со стариком на ней куда-то девались. Мартин же быстро залезал под плед, иногда даже не ложась в кровать, прямо на полу, обняв одну из резных деревянных кроватных ножек руками, и засыпал. Плед пах материными руками – да-да, этого ни с чем не перепутать, а ещё розами. Такие цветы мама-Тьма носила в волосах, наряду со звёздами. Но звёзды не пахли, точнее, пахли каждая своим запахом – отдельного человека, часто женщины. Но не мамы. Ни с чем не перепутать. Мама.
Сон приходил быстро.
Каждый раз открывалась дверь, ведущая из квартиры (Мартин боялся выходить за неё самостоятельно – боялся потеряться), так входил господин Сон, постоянно забывая нарочно или случайно закрыть или хотя бы прикрыть входную дверь, пока он хозяйски властвовал над миром-квартирой. Именно миром и именно квартирой. Ведь вместе с открытой дверью в квартиру проникал весь мир снаружи, обходя наверняка запутанные и многочисленные лабиринты коридоров Дома. Наружный мир врывался Тесеем в логово… кого? Здесь нет Минотавра – быкоглавого сына царя Миноса, но есть сын той, что зовется Тьмой.
Миру извне было без разницы, кто и чей сын. Мир рубил стальным мечом снов то, что скрывается под короткой чёрной шёрсткой, под маленькими треугольными ушами, одно из которых во сне заворачивалось, как спинной плавник у касатки, рождённой в неволе. Мартин всегда обращался во сне в котёнка. Темнота брала своё. Темнота всегда знала, какие очертания предметов, вещей… настоящие. Даже если на улице за пределами мира-квартиры был день. Для сомкнутых сонных глаз нет разницы, день или ночь: темнота – вот настоящая хозяйка точки такого зрения.
Мир снился Мартину живым:
Вот в темноте далёких гор просыпаются великаны и начинают круговорот своей медленной игры – перебрасывают с места на место скалы, двигая, таким образом, горы. И не в силах вернуть эти горы обратно – к рассвету засыпают исполины среди скал, сами становясь скалами. И уже во сне скалы поедают ветер, застрявший у них на клыках.
А вот и сам ветер. Важный господин. Ужасно неуклюжий и быстрый. Странное и страшное сочетание. Ветер, словно великаны, играется, перекидывая с места на место фигурки разных созданий, доставшихся ему в наследство от некоего старшего собрата или сестры. Фигурки не могут вернуться назад, хотя хотят этого. А ветер может их вернуть, но он играет, создавая диорамы, разыгрывая сценки. Что-то шепчет своим игрушкам, вкладывая в их головы мысли и тайны, а может, и целые Слова и цели. Мартин во сне завидует ему – ветер может видеть, как игрушки оживают и выполняют все команды, а иногда противятся им. Тогда получается вдвойне смешно: тело фигурки пытается делать одно – движется, бежит, сражается, пьёт чай с ароматным мёдом или мокко или просто стоит на месте, приклеенное к подставке со своим именем. А вот душа – рвётся и мечется. Рвётся и мечется. Пока кусочки души не улетучиваются малиновым дымком куда-то высоко-высоко – в чёрно-красный шарик, наполненный цветом, светом и верой.
Мартин не знает таких слов, но они ему понятны.
– Я – чёрное солнце, я всем свечу. Зла нет. Верь мне.
Так говорит одна из звёзд. Самая первая. Чернородная. Её зовут Первосвет.
А вот одна из фигурок в руках господина ветра слишком примелькалась. Мартин узнает её во сне, почти угадывает. Каждый раз, стоит только господину ветру заглянуть вместе со всем наружным миром в мир-квартиру. Наверное, это его, ветра, любимая игрушка. Нужно будет спросить. И попросить посмотреть совсем близко, если позволит.
Игрушка-старик. Металлический, раскрашенный вручную. Белая борода издалека кажется чёрной, а если совсем близко – то рыжей. Странно это. Фигурка подчиняется и не подчиняется ветру. Её тело постоянно стремится не оказаться там, где хочется видеть его ветру. А вот душа, напротив, – следует любому плану игры, любому спектаклю, поставленному живой стихией. Естественно, тело рушится, вот только душа фигурки не вылетает душистым дымком, нет. Душа меняет, как одежду, тела. Может, от этого борода у неё разных цветов, или не стоит при рассматривании фигурки прищуривать то левый, то правый глаз?
Вот ещё и ещё одно тело наползает на дымчатый остов послушной души, как жидкий металл, вливаемый в пресс-форму. А господин ветер не понимает, что же ему сделать со странной игрушкой. Наказать ли её? Помиловать? Господин ветер, в своём прозрачном, чуть розоватом мундире, с солнечными погонами генерала и закрытым, как у пирата, тёмной повязкой с рисунком-каплей глазом, всё шепчет и шепчет старику-фигурке одно-единственное слово: «Ищи».
– Кого искать? – Мартин просыпается от собственного голоса. Лишь на секунду перед глазами мелькает убегающий господин ветер, уже выбежав за дверь, так странно и пугающе чётко посмотревший в глаза Мартина, словно сказавший:
– Я тебя увидел. Ты – меня. Не проговорись.
Интересно – а услышал ли? И что было в моих глазах?
А дверь снова закрыта. Мир-квартира – вакуумное пособие по одиночеству. Клетка для зверя? Для меня?
– Мяу?! Мау! Ма-ма!
И тёплые руки – Мартин знает и понимает – они теплы только для него, а так ледяная хватка – разглаживают взъерошенные волосы на голове сына, там, где минуту назад была вставшая дыбом шерстка. Мягкий голос щекочет правое ухо. Или это прядки материнских волос? Или колкие звёзды-украшения в её прядях? Но вот голос матушки-Тьмы слышится всё отчетливей. Мама поёт. Колыбельную? Мне?
– Мяу! Мау! Ма-ма!
Снова хочется спать – погрузиться в тёплое забытье. Ведь теперь оно создано не господином ветром и не сэром Сном, но напето матушкой-Тьмой:
Научись меня видеть во сне,
Буду ближе и чаще с тобой.
Если ночь царит на дворе,
Если день полыхает костром – Я за правым, за левым плечом
Я в тени, я и древо, и тень,
И в руках твоих, я и в глазах.
Спи, котёнок. А хочешь – не спи.
Я качаю тебя на руках
В Доме, здесь или в Грустных мирах
Научись находить на песке,
И в чертах отражений своих,
И на складках одежды, и во сне — Своей матери оклик и лик
Мы с тобой ближе самых родных
Просыпаться после колыбельной не хотелось. Мартин во сне чувствовал собственный страх – а что если колыбельная была последней, потому что первой? И страх проникал глубже в сон, обращая его в ночной кошмар, грозящий приходить со временем каждый вечер, как по часам.
Матушка-Тьма стояла у окна, сегодня оно, по её желанию, выходило на берег моря. Там шёл дождь – это когда вода летает. А море – море, это сотни и сотни капель, взявшихся за руки и играющих в «волну», поднимая руки и тем, обрушивая на берег настоящие волны. На берегу были раскиданы то тут, то там песочные дворцы и замки, увы, обречённые на снос скорым приливом и волнистыми струями-плетями дождя. Любителей строить из песка (и, судя по изяществу песчано-ракушечного зодчества, – профессионалов) видно не было, они, верно, не думая об участи своих дворцов, сейчас проводили время рядом с любящими их матерями и отцами. А может, ещё братьями и сестрами.
У Смерти тоже были маленькие «сёстры», а ещё много подруг, но всё больше слуг. Был отец, вспоминать о котором было слишком больно, даже с учётом отсутствия сердечной мышцы как вместилища боли дочери за своего родителя. И не было у неё матери. А теперь… теперь она сама стала матушкой-Тьмой и её дитя спало за её спиной. У Мартина была она – мать, но вот отца…
Что может дать вечно отсутствующая мать своему дитяти, кроме, кажется, первой колыбельной и редких поцелуев в уже спящие закрытые глаза. Мартин – мальчик, а мальчишке нужна твёрдая мужская рука, учащая держать удар судьбы и жизни. Если не отец, то старший брат. Так думала она, привыкшая уводить отцов от детей, дедов от внуков или даже лишать близнецов возможности видеть самих себя не только в зеркале. Детство для Смерти – закрытый ящик, к которому или рано ещё подходить или уже можно вешать ту самую табличку: «Продаются ботиночки. Детские. Неношеные».
Детство – потерянная Античность, эховый, аховый лес. Только те места, где Смерть находила оставленных взрослыми детей, с ужасом в глазах оглядывая их и окружение – как только попали сюда? Нет бы – сидели на даче, там, где антоновка и кусты крыжовника, или в палатке мамы и папы археологов, перебирая древние черепки кувшинов и монеты, а не летали с кривого утёса на жёлтые клыки-скалы в бухте Херсонеса на Чёрном море. Не стоил крик «Дельфины!», «Где?», «Вон там» такой встречи.
– Будет тебе отец или старший брат, мой котёнок, – отвечает леди и выходит, нет, не в окно, но через распахнутую дверь, за которой над полоской берега встаёт семиметровый вал солёной воды. А переполненные укрывшимися от дождя людьми кафешки в нескольких десятках метров от морской линии, слишком слабо защищены от обезумевшей стихии песчаными стенами и башенками в высоту детской ладошки.
Мартину снится сон. Это естественно – что ещё делать сну, как не сниться? Вот только сон, кажется, прочёл вот эту самую строчку и теперь бунтует за своё право самому выбирать, что ещё он может делать. Сон взбивает подушку под головой Мартина, сон сдергивает плед с маленького тела котёнка, сон громко шепчет на всю квартиру-мир, так, что не слышат только пауки Фёдор и Иван в дальнем углу у двери: Давай играть?
Мартин открывает один глаз, предварительно чуть поведя левым остроконечным ухом. Нет, сон не пропал. Вот он, сидит рядом, аккуратно складывая сдёрнутый с Мартина плед. Сон или не сон? Вроде как господин Ветер – строгий генеральский мундир, конечно странного для военного розоватого оттенка, поблёскивает нашивками, пуговицами и знаками отличия на погонах. Лицо, ранее видимое только во сне, да и то мельком, теперь в этом сне спокойно застыло на одном месте. Ровно на голове господина ветра. Кожа белая, лицо безбородое, подумать можно, что юное – да вот глаза… матушка-Тьма говорила: «Есть такие глаза – посмотришь в них и уже не забудешь. И через жизнь будешь искать именно эти глаза в толпе или у одиноких прохожих на пустой улице. У тебя такие глаза были, Мартин, сын». Вот и у Ветра (так надоело даже про себя называть его господином) были именно такие глаза. Вернее, глаз. Смотрит и вроде как улыбается. А затем сам ветер улыбнулся уже тонкой полоской розоватых губ, гармонирующих с отсветом мундира. И ветер стал совсем юным – буквально мальчишка-новобранец, только-только покинувший школу. А может, младше ещё, на год или два.
Да только что-то отвлекло сон-ветер на долю секунды, повернул он лицо, обратился к неведомому собеседнику за пределами мира-квартиры. И да, снова стал господином ветром – возраста непонятного, но для Мартина таким мог быть отец.
– Хорошо. Я буду с ним, сколько не понадоблюсь в других местах, – и снова ветер повернулся к Мартину, сверкнув карим огоньком в единственном глазе. Второго глаза – левого – не видно за чёрной повязкой пирата, только красная капля нарисована на повязке аккурат симметрично живому правому зрачку.
– Меня зовут Александр, – представляется господин ветер и козыряет правой рукой, слегка коснувшись пальцами своих седых волос. Седых! Как Мартин раньше не обратил внимание? Или это свет виноват, сделавший волосы ветра, нет, Александра такими же чуть розоватыми, словно они часть мундира. Кошачье зрение не проведёшь – тут только на свою невнимательность пинать.
– А я Мартин, – и котёнок обращается в мальчишку.
Александр чуть поморщился – видно процесс превращения ему пришёлся не по духу.
– Мар-тин, а мою дочку звали Мар-гарита, она бы тебе понравилась.
– А где она сейчас?
– Не знаю, можно у твоей матушки спросить, она может ответить. Но лучше не надо. Мёртвых тревожить не лучшая затея, как и спрашивать о них у Смерти.
– А кто такие мёртвые?
Александр крепко задумался, и это отразилось на его лице: морщинки господина ветра разгладились, чем и обозначили своё незаметное до этого присутствие. Дуги белёсых бровей вместе с чуть прикрывшимися веками образовали, вернее, образовало холм со снегом над единственным глазом, что было над вторым – скрыла повязка.
– Дав-ай поиграем, – второй раз предложил Александр. – Покажу тебе чуть-чуть, как устроен мир, а ты сам решишь, кто в нём какой.
– Он же живой.
– Смотри внимательней и слушай.
Из раза в раз менялось только помещение. Комната в квартире, номер в санатории «Эллада» вблизи моря, деревянный домик с комнаткой для вожатых в детском лагере «СМЕтаНА». Один и тот же мужчина – лет двадцати пяти, затем возраст его все увеличивается, темнеют волосы и вдруг становятся пепельно-белыми, то возникает спутанная бородка, то пропадает, заменяясь на лёгкую щетину. Всегда вечер за окном, а то и сама ночь с любопытством заглядывает в неприкрытые шторами щёлки – любуется? Любопытствует? Страшится? Мужчина молится всегда и везде. На иконы в родной квартире, на иконы в чужом доме, на окна – там, где нет ни одного Его «портрета».
После молитвы мужчина прижимает раз за разом к губам свой нательный крест, повторяя: «Господь, ты щит мой и меч».
И где бы ни был этот человек, он подходит к окну, а то и просто встаёт во весь немалый свой рост под открытым небом и произносит всегда одно и то же: «Спокойной ночи, Мартин».
И где-то далеко или близко – в небольшом саду, почти под окнами квартиры этого человека, в коробке-могиле под сорока сантиметрами почвы, силясь слиться с чёрною землёй, спит вечно и спокойно чёрный котёнок Мартин. Сведены в спирали лапки вплоть до коготков, вертикальные зрачки глаз теперь не желты, но мутно белы, словно две луны в утренней дымке, – их меньше всего съели черви. И всё равно, кажется, что вот-вот задышит, немея, нос, вздрогнут свёрнутые уголками ушки, и котёнок начнёт вылизывать свою перепачканную в земле шерсть. Только для человека – Мартин-котёнок вылизывается всё равно, каждый вечер, а потом ложится спать под ласковые слова хозяина. И его ночь точно спокойная и, возможно, пропитана приятными кошачьими снами.
– Что с ним случилось?
– Не знаю, поймёшь ли: проблемы с кровяным давлением в мозгу. Однажды хозяин отвёз его в ветеринарную лечебницу, не в силах больше смотреть на мучения котёнка. И у него хватило сил на одно слово: «Усыпите». Нет-нет, совсем не с моей интонацией, могу даже сказать – он говорил его сквозь слёзы. И котёнок с тех пор…
– Спит тем сном?
– Да, – Александр чуть отстранился от Мартина, и они оба выпали обратно в мир-квартиру. – Спит тихим беспробудным сном, всегда спокойным. Он под звёздами нашёл покой.
И уже шёпотом, куда-то в сторону, так, как может говорить только живой ветер: «И мне хватило сил на одно слово. Пли. И моя Маргарита спит спокойно, под небом найдя покой».
За проявившимся в дальней стене окном начинается дождь – это ветер остриём своих потоков врезался в массив серо-синих туч, разметал их, заставив плакать вместо себя. Кап-кап. Вода несолёная? Ненастоящие слёзы? У других нет больше и таких. Кап-кап. Мёртвых нет.
– Господин Александр, покажите ещё, – Мартин, вот этот живой котёнок-оборотень, не понимает игры, он хочет ещё. Ещё узнать такое, от чего больше не приходится спать – иначе в каждом сне каждую ночь, а часто и день, видишь лица тех, кто теперь спит постоянно. Спокойным сном.
– Давай руку, – и Мартин протягивает ветру руку, и тот, прежде чем показать следующую часть игры, гладит свободной рукой мальчика по голове как сына. Как мог бы гладить свою дочь молодой генерал, если бы только он в давнем-предавнем будущем не решился на одно-единственное слово.
Лает собака. Плешивый пёс с левым обгорелым боком. Морда вся истрепана, в колтунах шерсть, бывшая некогда пушистой, такого жёлто-кирпичного оттенка. Теперь же шерсть грязно-серая, слипшаяся. А вот уже пёс воет – не на Луну или, как говорят о собаках с очень-очень хорошим зрением, – на Юпитер. Отзываются ему в ответ воем частички той стаи, что решили для себя: не лучше ль того, чтоб греть бока друг друга и поровну делить свой дом с ветром и небом, – принять в стаю человека. Принять под защиту свою и свою ответственность – ответ держать. Когда не бездомного пса находит человек, но человека без дома в душе своей – находит пёс. И люди не будут знать о том, что приняты они в стаю, но каждый вечер, а когда случается беда – то и в час дня и в каждую минуту горя, – перекликается стая, спрашивая и отвечая: Цел ли каждый?
Человек? Зверь?
Без разницы. Цел ли каждый? Цела ли стая? Ответ держат некогда волчьи переклички, потребные для охоты. Теперь иначе всё.
Воет пёс, скулит. Воет. И слышит вой в ответ: целы мои, цел мой, целы…
Воет – цел сам пёс и ответ несёт за тех, кто выть не может, но так же в стае. В семье – если на языке человеков.
А этот пёс одиноко воет – о себе говорит. Хочет и о доверившемся ему человеке, да нет его рядом. Вот здесь, в метре, ещё нос чует. Нет, нос давно его чуять перестал – и три луны прошло и шесть скоро будет. Лежит не шелохнётся человек, сквозь землю ни запаха его, ни слова, ни сердца удара не услыхать. Только греть его, хоть бы вот так, через матушку-землицу отощавшим животом своим и шерстью, уж какая теперь есть, остаётся псу. И греет. Защищает – как может. Нет у собак своего бога, но, как и у Бога – нет мёртвых, нет их и для собак.
Только одиноко и протяжно звучит вой усталого пса, обрываясь там, где ответ должен звучать за своего человека. Нет ответа, но я берегу его, человека, и отвечаю, как могу, – я цел, я с ним.
Теперь сам Мартин выходит первым. Отключается от Сети. Незаметно для него самого, обернувшегося котёнком, – отпадают штекеры проводов от ячеек подключений в шерсти на кончике хвоста Мартина.
– Ма-у. Ма-у, – жалобно разносится по миру-квартире. Котёнок понимает и принимает беспокойство пса – куда больше естественное, родное – то, что он уже испытал сам. Ребёнок-без-родителей, это он был почти как те люди, без дома в своей душе. Одни дают имя, другие помогают выстроить дом. Родные. И что стоит имя, если нет рядом, нет больше того, кто произносит его так же, тем же голосом, каким дал. Чего стоит дом, даже внутри себя, если часть его пуста, часть его мертва.
– Покажи мне ещё, ветер. Я хочу знать всё. Покажи, – теперь Мартин-человек, уже не согласен на игру, а только на то, что есть на самом деле. Игра ведь – это всегда понарошку. Даже если понарошку – родители просят ребёнка прятаться от тех смешных маленьких са-мо-лё-тов, которые всего недавно пытался ребёнок поймать в сачок для бабочек. А теперь вот они бросают свои железные шарики и пытаются поймать под их громкое «бум» мальчика.
Генерал Александр Кромвель показывает Мартину то, что привык видеть сам. То, где легче всего познакомиться и определиться с тем, кто такие мёртвые. Ветер несёт Мартина в будущее, показывать… Войну.
На шатающейся на одном оставшемся целым винте обгорелой табличке отчётливо видны все, кроме первой буквы. Нет заглавной, первой, главной.
«…лавянск».
И скрип-скрип, шатает ветер табличку.
На обгорелой траве, уцепившись обеими ручками за металл столба, который и венчает обгорелая надпись, стоит ребёнок. Четыре ли года? Пять? Одежду ему заменила сажа – темны от неё руки и ноги. А вот лицо бледно и красны глаза мальчишки, слёз полные и обиды. Мальчик смотрит на дорогу – широкую ленту – асфальтовую змею, растерявшую часть гладкой своей чешуи, променяв её на выбоины и широкие ямы, что взрослые называют: воронками. Мальчик смотрит. Не кричит больше ребёнок, только смотрит, сжимая пальцами металл столба, на котором раньше приветственно с большой заглавной встречала приезжающих в город людей табличка с именем этого града. Мальчик ждёт родителей, лишь иногда призывно, так, что, не желая этого, – далеко уносит по дороге ветер слова, зовёт: «Ма-ма! Па-па!»
Зовёт прийти к нему, оттуда – с дальнего конца дороги, где она изгибается и теряется за посадкой молодых деревьев, сейчас же поваленных и покошенных. Мальчик не оборачивается – за спиной его тлеют останки дома, где он уже звал родителей, и они не пришли. Если мама не пришла из дома – значит, её там нет? Ведь так? Так?!
Дом у обочины мёртв. Но ведь в мёртвом не могут быть мама и папа, они-то всегда живы. И придут – обязательно придут. Иначе и быть не может.
– Ма-ма! – ещё раз летит в строну дороги и чуть-чуть в сторону дома (а вдруг где-то за ним мама?). В ответ мальчику раздается вой тревоги воздушной опасности. Город отвечает, как может.
Тишина. И нарастающий свист, затем самое дальнее эхо, ещё звучащее голосом ребёнка разрезается резким: Бум!
– Мёртвые, они как живые, только их нет рядом? Ведь так, скажи! – тело Мартина трясёт озноб, но голос чёток и твёрд, вроде не мальчик лет семи говорит, а сам генерал Кромвель отдал мальчонке свой голос и тон.
Ветер только вздохнул – тяжело и холодно, так что с потолка посыпались снежинки, а пол вокруг сидящей на нем пары мужчин засверкал ледяной гладью и инеем.
– Ты знаешь такое слово – «визовил»?
Мартин отрицательно качнул головой, и если бы кто-то был сейчас в мире-квартире кроме этих двоих, то ему бы показалось – вокруг гуляют метели и тяжёлые лапы елей ищут человеческих плеч, чтобы лечь на них и отогреться от массы снега на своих иглах. Но нет здесь никого, кроме Мартина и Кромвеля, и елей нет и нет метели.
И господин ветер начинает свой рассказ доверенному его власти ребёнку, погружая его в картины, что он – ветер, лицезрел сам, где раздувал огонь, ломал волны, распространял летучий мор на своих крыльях или просто смотрел. И Мартин, зачарованный странник, путешествует по картинам полным ветра и смерти – визовила, узнавая, что значит это слово. И кто такие – загадочные мёртвые. Живые только пока их помнят.
…Мёртвый – это находящийся в состоянии визовила – когда ты уже не отец, машинист, чей-то брат, но только память в чужой голове. Но вот чужое сознание, хранящее память о мёртвом, перетечёт в небытие – и визовил исчезнет. Это ещё одна часть смерти, окончательной.
Мартин хотел узнать, что общего у его матушки-Тьмы с мёртвыми. И ветер не знал, как ответить. Но как не ответить ребенку? Её сыну.
– Я не знаю, Мартин, я не знаю. Матушка-Тьма, так ты называешь маму. Я зову её прямо и просто – Смерть. Иногда Мортис. А вот на языке птиц пожелание встречи с твоей матушкой звенит похоже – Мортум. Твоя матушка, матушка… мы, живые вещи, чувства, стихии, иногда даже стихи – не знаем, как делаем свою р-работу, предназначение, как мы исполняем свою суть, для которой рождены.
Ветер прикрывает рукой свой глаз, пальцами заставляя веко сомкнуться:
– Твоя матушка – очень добрая женщина, она протягивает руку тем, кто оступился и уже не встанет, кто уснул без возможности проснуться…
– А дальше она помогает им, Александр?
– Я, я не знаю, Мартин, я не умирал. По крайней мере, насовсем. Спроси у неё сам и знаешь что…
– Что?
– Ладно, просто спроси, может, хоть один живой будет знать, как помогает Смерть мёртвым.
– Спрошу. И о твоей дочери – Маргарите, так её зовут?
– Зовут, да, зовут. Спасибо, Мартин, – Александр целует мальчишку в висок и мановением руки обращает мир-квартиру в тихий сад с кустами роз цвета синего неба и жёлтыми тюльпанами, уходящими за горизонт. Главное не приглядываться, иначе разочаруешься в том, что это только рисунки на стенах. Только запах цветения неподдельный. Мальчик, наконец, улыбается, после всех картин теперь увидев что-то живое.
– Сме… матушка-Тьма скоро придёт сюда, у неё будет много дел, но, думаю, она найдёт время побыть со своим сыном. Мне нужно вернуться сейчас в те миры, что не могут без ветра или где для меня есть работа – вроде переноса домика из Канзаса или перегона стада туч из долины Гальв’В до высохшего моря Клинков.
– Я понимаю, – мальчик не понимал много и понимал всё, такой уж ребёнок с глазами, знающими что-то самое-самое важное. – А ты, ветер, придёшь ещё вот так, чтобы не во сне? Мне о многом хочется ещё спросить тебя.
– Приду, Мартин. Если позовёшь или я буду рядом, только уже не в этот мир.
– Почему не в этом?
– Я же сказал, у твоей матушки скоро будет очень много работы здесь. Здесь, за пределами твоей комнаты целый мир, Вавилон, полный разных чудес и, увы, обреченный. Матушка-Тьма уже приходила сюда совсем недавно, сняла мерки, подсчитала, подсчитала и взвесила, сколько потратиться на то, что она делает. Осталось разделить. Такова её работа. Смерть приказы не обсуждает и не отменяет. Правда, она вычла из сметы тебя. Своего сына. Видно, живо ещё хоть где-то главное правило всех эпох: мир не ценнее слезы ребёнка. Твоей слезы, Мартин. Жаль, я сам, не вспомню об этом правиле, жаль, – Кромвель смотрел в лицо ребёнка… своим единственным живым глазом в глаза Мартина – в глаза самой Смерти. Вот же её взгляд в паре мальчишеских зрачков: один – живая искорка света, второй – живая копошащаяся в зрачке тьма. Этому ребёнку придётся носить всю жизнь, очень долгую жизнь, очки, иначе каждый встречный, встретившись с Мартином взглядом, поймёт, кто перед ним. Или ошибётся? Вот как ты сам сейчас, Кромвель, смотришь в его глаза и не видишь главного: тебе не верят. Показать ему? Показать…
Ещё раз. Только бы обойтись без переходов в иные миры. Всё так просто – вырастает в стене окно, наверняка так делала сама Смерть, навещая своего сына. За окном внешний мир. Дома, люди, машины, витрины магазинов, обязательные в Вавилоне – висящие везде провода, формирующие своими провисшими линиями контуры второго неба. Небо под небом. А вот и доказательство для Мартина. Не зря ли ты это делаешь, Кромвель? Однажды ты уже поплатился за взгляд на небо.
– Встань, Мартин, иди и смотри.
Мартин-человек встает и идёт смотреть в окно, за которым сотни людей обратили свои лица к небу. А небо сжимается в тёмную полоску, переливающуюся огненными цветами, сжимается под тёмной тушью-тенью ещё далёкой, но неминуемо движущейся к небу… фигуры? Монстра? Кого?
– Я сам не знаю, – ветер предупреждает ответом вопрос. – Они приходят пожирать мир, когда в нём остаётся мало цвета.
Кромвель обводит руками мир-комнату, и за красками цветов – синих роз, жёлтых тюльпанов, зелёных побегов и листьев – проступает серость стен и пыль.
– Ты можешь спросить у самого мира, он же твой должник. Весь мир не стоит единой слезы ребёнка. Здесь ещё действует этот покон. Я помню, как ты плакал, ребёнок-без-родителей. Это я своими порывами смешивал капли дождя с твоими слезами, и не давал самым большим струям-бичам небесной влаги касаться твоего тела.
Мартин не ответил и больше не спросил. Мартин снова плакал. Мальчик, ещё далёкий от образа мужчины, может позволить себе плакать. Куда ещё девать запасы слёз, если их не истратить в детстве?
Матушка-Тьма пришла сюда не от скуки, не от любопытства и, увы, не исключительно ради обретения сына – его, Мартина. Матушка-Тьма пришла за всем миром, ей указали его. Но ведь здесь она обрела меня, своего Мартина! Может, она ошиблась, и ей не нужно выполнять столь строгий указ – забрать всех?! Может… Я ведь сын её, она почти дала мне имя, она стала моей матерью. Если не подчинится не она, а я? Я ведь могу. Я её сын! Я удержу небо и тех, за ним. Я…
Не человек защищает свой Дом, что неожиданно оказался больше дома своей души или даже мира-квартиры, но живущий внутри зверь, загнанный в угол только тем, что увиденное им обещает быть тут же разрушенным. А он ещё не успел полюбить увиденное, почувствовать его, лизнуть, почуять запах и вкус. Отбирают. Кто? Ма-ма. Нет. Кто приказал матушке. Кто тот зверь, что больше и прожорливый? Неизвестно и неважно. Мама же не обидит своего сына? И всё то, что станет частью её дитяти.
Глаза котёнка Мартина медленно закрываются. Сэр Сон снова пришёл неожиданно и не вовремя. Или пришёл не он? Выскакивает за дверь перепуганный ветер, стремясь уйти вовсе из этого Дома, что оказался на обочине дороги жизни. И только маленький новоиспечённый титан тяжело падает на пол, уже во сне кто-то укрывает его худенькие плечи пледом. Плечи, теперь держащие на себе Небо Вавилона. Мира, за который ребёнок готов отдать больше одной слезы.