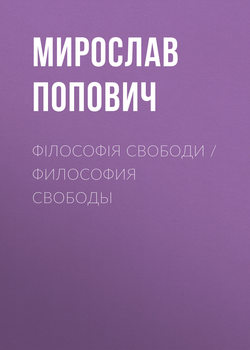Читать книгу Філософія свободи / Философия свободы - Мирослав Попович - Страница 12
Частина 1
Семіотика Києва
Часть 1
Семиотика Киева
Древний Киев – столица Руси
Честь и слава
ОглавлениеНо что же такое «по чести (честно)» одолеть врага, «по чести» пролить «кровь поганых»? Как добиться победы, сохранив и умножив честь? Что такое вообще честь для киевлянина той поры?
Понять природу понятий «честь» и «слава» помогает дискуссия по этому поводу между Ю. М. Лотманом и А. А. Зиминым34. Спор велся вокруг стандартной формулы «Слова о полку Игореве» – дружина ищет «себе чести, а князю славы». Ю. М. Лотман полагал, что от князя дружина получала честь, то есть в конце концов денежное и прочее материальное вознаграждение за службу, тогда как князь получал от дружины добытую в бою славу. Особенно убедительно эта концепция подтверждалась западноевропейскими материалами. Но А. А. Зимин приводил контрпримеры из русских летописей, в которых речь шла также о передаче чести и от князя к дружине, и от дружины к князю. Действительно, на Западе формула honor et gloria чётко разграничивала полномочия и сакральные функции сеньёра и вассала: сеньёру полагалась gloria (слава), вассалу – honor (честь). Но на Руси отношения были более архаичные и менее прозрачные, и считать дружинника вассалом князя было бы не совсем корректно.
Ю. М. Лотман
Если учесть символический и сакральный смысл соответствующих терминов, то противоречие между историками оказывается мнимым, а Лотман правым в принципе. «Петь славу» или «хвалить» означало не простой речевой поэтический акт, а сакральную передачу-послание поющими правителю благодатной харизмы – славы или хвалы. Древние верили в чудодейственную силу пения; для повышения плодородия поле воспевалось, то есть поющие обходили поле вокруг с сакральными песнями. С принятием христианства пением называли церковную службу. Идеологи советской поры, требовавшие, чтобы литература и искусство воспевали подвиги партии и народа, и повторявшие как заклинание «слава КПСС!», не подозревали, как близко от языческого идолопоклонства они находились.
А. А. Зимин
Слава как харизма победителя является источником силы князя – воинского руководителя. Слава военного вождя распространяется и на его дружину, и в этом смысле прав был Зимин. Но если харизма покидает предводителя, то его следует устранить; из истории многих цивилизаций можно привести примеры безжалостного убийства или изгнания неудачливых вождей. Харизма славы принадлежит князю, но источником её является дружина. В литературе времён Руси постоянно встречаем поучения относительно того, что дружине не следует жалеть даров, ибо сила князя как раз в дружине и заключается. Дружина дарит князю победы и славу, князь удачлив лишь постольку, поскольку у него хорошая дружина. И в этом смысле в том давнем споре прав Ю. М. Лотман.
Что же касается чести, то есть такого состояния, когда за добро воздаётся добром и за зло – злом, то здесь инициатива принадлежит князю как носителю власти, от действий которого зависит победа. В буквальном смысле честь – это трофей, имущество, отнятое у врага и разделенное по справедливости князем между дружинниками. Но с точки зрения архаического сознания движение материальных предметов в процессе их присвоения – лишь тень тех идеальных процессов, которые протекают в обществе.
Считая честь категорией чисто духовной, А. А. Зимин не усматривал возможности её одновременного материального бытия в виде вознаграждения за службу или трофея. По Лотману же, честь неизменно связана с актом материального обмена: её «дают», «берут», «принимают» и так далее.
Н. Н. Яковенко
Поддерживая концепцию Ю. М. Лотмана, Н. Н. Яковенко указывает, что подобное понимание чести было живым ещё в эпоху Литовских статутов, в XVI веке. «Скажем, Статут 1529 г. обещает, вознаграждая иноземцев за службу, не предоставлять им «врадов наших («урядов», т. е. должностей. – М. П.), или честей». Более подробное оформление этого артикула в Статуте 1588 г. показывает, что под упомянутыми «честями» имелись в виду должностные и земельные бенефиции, то есть материальное вознаграждение: «достойностей духовных и светских, городов, дворов, грунтов, староств, держав, врядов земских и дворных, посесый… чюжоземцом и заграничником… давати не маем» (‘достоинств (чинов и званий) духовных и светских, городов, дворов, земель, должностей старост, держаний, земских и дворовых должностей, посессий… чужеземцам и иностранцам… предоставлять не будем’) (разд. III, арт. 12). Не менее показательно и то, что «отсуженье чти» (‘лишение чести’), согласно Статуту, сопровождалось конфискацией имений только в случае государственной измены или бегства с поля боя, то есть тогда, когда шляхтич нарушал верность сюзерену – верховному собственнику земель, пожалованных шляхтичу в виде знака или символа ‘чести‘»35. Материализация «чести» в виде бенефиция и лежала в основе оформления феодальных институтов в буквальном значении слова.
Но эволюция «чести»-награды по крайней мере в эпоху ранней Руси ещё находится на такой стадии, когда раздаются не земли или должности, а ценности-трофеи. Уже во Введении к Начальному своду летописей с ностальгией говорится о прошлых временах, когда князья собранную ими дань давали дружине на оружие, а дружина этим «кормилась» и «тянула» за своим князем и Русской землей, жёны дружинников скромно носили не золотые, а серебряные обручи, а дружинники требовали у князя не более двухсот гривен в год. Дружина требовала у князя всё больше чести, в том числе и в материальном выражении. Это была сакральная обязанность князя: в «Молении Даниила Заточника» (XIII век!) автор советует князю раздавать дружине злато-серебро, ибо не золотом добывается дружина, а дружиною добывается золото. Инициируя дарение богатства как престижа дружине (оказывая ей честь), князь обеспечивает себе победы и славу. Да и дружина рассматривала добытые в походе ценности прежде всего как символы престижа, о чём говорит приведенное выше место из «Слова о полку Игореве» («Покрывалами, и плащами, и одеждами, и всякими нарядами половецкими стали мосты мостить по болотам и топям»). Это карнавальное выражение презрения к богатству очень напоминает демонстративное измазывание грязью и дёгтем дорогих одежд, которым спустя многие годы запорожцы поражали воображение своих современников.
Честь получает ощутимый эквивалент в деньгах и сокровищах, но это таит угрозу потери её духовной сущности. Ибо честь должна быть дороже богатства и самой жизни. Честь как этическое достоинство остаётся определяющим достоянием воина-дружинника, потеря которого – бесчестье, срам (сором) – значит едва ли не нечто более ужасное, чем потеря жизни.
Отношение к Киеву выражалось в формуле: «…вся честь, слава, и величество, и глава всем землям русским Киев».
Город Киев называют «славным и честным». Это звучит торжественно и красиво. Но если мы хотим понять систему ценностей средневекового города, мы не можем относиться к выражающим её формулам просто как к художественным метафорам. Формула эта свидетельствует о том, что харизма власти-величия и славы передается городу, преданность которому и является теперь основой чести подданных.
Многим открытиям и в исторической науке, и в общей социологии мы обязаны, в частности, исследованиям системы ценностей и социального поведения архаичных народов, производившимся как в американских, так и в европейских университетах начала ХХ века. Эмпирические исследования этнологов и теоретические разыскания в области общей истории обмена позволили создать общую картину архаичных ментальностей, полную неожиданностей с точки зрения «здравого смысла».
Марсель Мосс подверг сомнению привычное представление об экономическом обмене материальными ценностями как основе, по выражению К. Маркса, «обмена человеческой деятельностью». Изучая обычаи североамериканских индейских племён, связанные с коллективными трапезами по разным поводам (т. н. потлач), преимущественно в связи со свадьбами, Мосс обратил внимание на то, что безмерная необузданная щедрость ритуальных угощений никак не может быть объяснена рациональной материальной мотивацией. Единственный мотив, который может породить такую безудержную трату средств, – это стремление поставить гостей в ситуацию долга, обязательства ответить столь же безмерным жертвованием ресурсов.
Обмен дарами – постоянный процесс, происходящий в сообществе, стремящемся к консолидации. Экономическая выгода от обмена была поначалу лишь частным случаем или стороной общего «обмена человеческой деятельностью». Самые древние примеры обмена дарами – совместные трапезы и обмен брачными партнёрами. Перерыв процесса дарения/отдаривания порождает состояние невыполненного долга; само слово «долг» связано с понятием «долгий» – это как бы продление процесса обмена, вызванное откладыванием ответного дара. Если ответный дар вообще не последует, «должник» оказывается в ситуации бесчестья, cрама. Честь, следовательно, есть такое состояние, когда на содеянное добро – символически обозначаемое как дар в процессе «обмена человеческой деятельностью» – человек отвечает добром же. На безмерный дар – безмерным добром.
Время Киевской Руси – это время перехода от идеологии коллективного действия и коллективной ответственности в виде кровной мести к идеологии личной ответственности, внешне выражающейся в замене кровной мести денежным выкупом (вирой).
Неотмщённое зло точно так же, как неотвеченный дар, ставит оскорблённого в ситуацию бесчестья. Смерть предпочтительнее срама: «мёртвые срама не имеют», сказал перед битвой князь Святослав Игоревич. Но кровная месть обнажает особенность родовой организации. При кровной мести ответчиком будет не обязательно персональный виновник зла – месть преследует любого представителя рода, ответственность коллективна. Субъектом действия, таким образом, выступает и тот, кто непосредственно причинял зло, и как бы находящийся в нём сверхличностный элемент – род как важнейшая часть Я. Поэтому и отвечает за деяние и Я, и мой род.
Нормы нового правопорядка различны для разных социальных групп. Но существовало нечто общее для взаимоотношений разных социальных слоёв: взаимодействие «высших» и «низших», «старших» и «младших» групп рассматривалось современниками как обмен социальными ценностями, дарениями в абстрактном смысле этого слова, что и обеспечивало устойчивость социального целого, которым являлась Киевская держава. На примере отношений князя со своей дружиной мы видим обмен такими ценностями, как слава и честь, обмен, в ходе которого власть князя так же выгодна его служилой и военной челяди, как выгодна и князю преданность челяди.
<…>
Можно сказать, что разные, в том числе очень неоднородные сообщества людей базируются на трёх основных типах коммуникации: «силовом» (например, взаимное соблюдение правил кровной мести), «духовном» (например, совместное проведение праздников) и «производственном» (например, обмен брачными партнёрами в важнейшем производстве – в производстве детей, воспроизводстве рода человеческого). Так, например, была построена система «доха» у таёжных народов: инициатива договора доха исходила от тюркских групп, к ним примыкали иные таёжные этнические группы, и совместное проведение праздников, общность врагов, которым надлежит отмщение, и межплеменные браки связывали в нечто целое малочисленные разнородные сообщества и усиливали их позиции. Перед нами – типичный пример квазиродственных структур.
<…>
В законы Хаммурапи вошли и такие обычаевые нормы, как правила определения колдуний через бросание подозреваемых в воду. Государственным законом эти нормы сделались не потому, что они получили какое-то, так сказать, научное обоснование, а потому, что процедура определения была отнята у толпы или родовой организации и передана государству в лице следствия и суда. Какими были органы и процедуры суда и следствия, мы не знаем, но именно в них – тайна государственности как социального феномена.
Копия стелы с законами Хаммурапи из Королевского музея Онтарио. Деталь
Марсель Мосс исследовал с этой точки зрения также возникновение римских правовых понятий, впоследствии вошедших в основу европейского правосознания. Он показал, что великим завоеванием человеческого права и нравственности стало понятие правовой личности (persona), соотносимого с неким абстрактным объектом, личностью как совокупностью социальных функций (слово persona означало первоначально маска). Права и обязанности, а также ответственность за свои действия полностью возлагаются на правовую личность-персону.
В том же римском правовом быту действовали и иные нормы, унаследованные от прошлого. На деле римлянин чувствовал себя не монолитной личностью – персоной как социальной функцией, а гетерогенной совокупностью различных составляющих. Это проявлялось и во множественности имён (имя рода, личное имя как повторение одного из имён, принадлежавших кому-то из предков, и личная индивидуальная кличка – cognomen). В древности это были не просто знаки для обозначения личности, но как бы различные части и составляющие души или даже различные дýши, в разной мере ответственные за содеянное личностью.
Под влиянием христианского учения о дуализме души и тела этнографы прошлого не замечали следов архаичных представлений о множественности душ у разных народов. Существовали такие представления и у древних славян, и, собственно, неповторимая личность Я ассоциировалась с головой, лицом, образом в зеркале, тенью, следом и прежде всего – с именем. И у славян также наряду с душой-личностью выделяли душу-жизненную силу, что отражалось в сказках о живой и мёртвой воде. Признавая кровную месть и коллективную ответственность рода за преступление, человек архаичной правовой культуры рассматривал личность преступника как сложную систему, в которую входит и родовая составляющая, также ответственная за поступки. Это и означает, что в культуре такого типа отсутствует понятие индивидуального действия и индивидуальной ответственности.
В правосознание Руси идея индивидуальной ответственности входит вместе с христианством.
Не забудем, что эпоха классического римского права начинается только с Юстиниана, то есть со времени, когда была сооружена константинопольская София. Но православные номоканоны – собрания законов, действовали только в рамках церкви и постольку, поскольку жизнь подчинялась церкви. Почти всё описываемое время князья носили два имени – крестильное и языческое, и мы знаем их прежде всего по их языческим именам. Но это были не только разные имена, а и разные души.
С учётом этой разницы в понимании источника человеческого деяния и ответственности за содеянное следует подходить и к понятиям «честь» и «слава» как нравственно-правовым категориям древнего общества и мотивам поступков, действовавших и долгое время после христианизации Руси.
<…>
Честь получает ощутимый эквивалент в деньгах и сокровищах, но это таит угрозу потери её духовной сущности. Ибо честь должна быть дороже богатства и самой жизни.
Великий князь Владимир II Всеволодович Мономах.
Портрет из «Царского титулярника». 1672 г.
В летописях часто рассказывается о том, как воины целовали крест (до принятия христианства – клялись оружием), но потом могли столь же легко отказаться от клятвы и целовать крест вчерашнему врагу. Создаётся впечатление, что в средневековой Руси слишком буквально понимали выражение «хозяин своего слова». Действительно, свободный человек, поступая на службу к князю, добровольно отдавал суверену свою свободу и жизнь. Но именно добровольность отличала его службу от рабской зависимости, а это означало, что дружинник всегда мог отказаться от своего слова и перейти на службу к другому. Если он делал это без предупреждения, тайно, то это было бесчестьем и изменой. Такое было допустимо с временными союзниками – «чужими». Так, молодого Владимира Мономаха опытные советники склоняли к предательству союзников-половцев, мотивируя это тем, что половцы – враги Руси и христианства. И князь в конце концов согласился с ними; излагая эту историю, летописец вроде и не осуждает княжескую неверность. Иное дело – со своими. В общем, преданность свободного дружинника своему князю имела временные рамки, которые он устанавливал сам своею волею. В этих рамках он дарил сюзерену свою свободу и жизнь, а князь отдаривал постоянными пирами в гриднице. Так сохранялась честь во взаимоотношениях князя и его дружины. Инициатором процесса, активным его центром и стержнем был князь. Материальные дары, которыми сопровождалось поддержание чести, лишь ощутимо выражали тот обмен духовными и символическими ценностями, который обеспечивал равновесие системы.
34
См.: Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь – слава» в светских текстах киевского периода // Труды по знаковым системам. III. Тарту, 1967; Зимин А. А. О статье Ю. Лотмана «Об оппозиции «честь – слава» в светских текстах киевского периода» // Там же: V. Тарту, 1971; Лотман Ю. М. Ещё раз о понятиях «слава» и «честь» в текстах киевского периода // Там же.
35
Яковенко Наталя. Паралельний світ. К., 2002. С. 129.