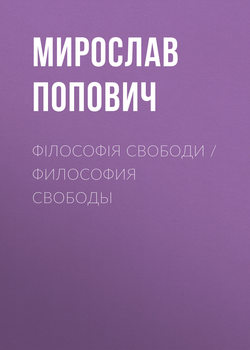Читать книгу Філософія свободи / Философия свободы - Мирослав Попович - Страница 8
Частина 1
Семіотика Києва
Часть 1
Семиотика Киева
Древний Киев – столица Руси
Город и село. Сельское окружение Киева
ОглавлениеМожно – вслед за немецким историком Карлом Баадером – говорить о средневековом обществе как о совокупности миров, а именно миров сельского, городского, княжеского и мира церкви. Эти миры были относительно автономны, и взаимные отношения строились не между отдельными индивидами через принятые обществом нормы и институты, а между людьми как представителями миров. Или, собственно говоря, между мирами.
Киев – «стольный град» восточнославянского государства – сочетал в себе все миры средневекового общества. Он был не только городом, но и великокняжеской вотчиной и церковным центром Руси; судьба его была неразрывно связана также и с сельским окружением, которое во многом определяло его материальные и человеческие ресурсы.
Данные археологии позволяют говорить о демографическом взрыве на территории юга летописной Руси в XXIII столетиях. Освоенная лесостепная территория расширяется, образуются как бы гнёзда поселений с ответвлениями, связанные друг с другом либо речными путями, либо грунтовыми дорогами. При этом сохраняются и старые населённые пункты в Полесье. На первом этапе преобладали крупные поселения в центре гнёзд, площадью до 10 га, тогда как примыкающие к ним относительно изолированные мелкие поселения площадью 1—4 га устраиваются на боровых террасах и склонах балок, пригодных для земледелия или для некоторых ремёсел. А в XII—XIII ст. большинство поселений занимает от 0,5 до 2 га, крупные составляют не более 7—8 % от общего числа11. Идёт колонизация новых земель явно аграрной, сельской направленности – покорение лесостепи и частично даже степи, сопровождающее едва ли не всю украинскую историю. В чём-то средневековое освоение лесостепи напоминает колонизацию степной Украины в XVIXVII столетиях: колонисты первоначально прячутся за городскими стенами, и лишь после утверждения над чужим полем они осваивают свободные земли уже как земледельцы. Но это не означает запустения городов: города развиваются, число их растёт, улучшаються и коммуникации внутри гнёзд и между гнёздами.
Особое место в лесостепном Поднепровье занимал треугольник между реками Днепр, Ирпень и Стугна, в центре которого находится Киев. Здесь зафиксированы археологами 180 поселений, густота которых значительно выше, чем в любом другом регионе12. Этот треугольник представляет собой непосредственное окружение Киева; сельское население его «тянуло» к столице.
Если говорить о пространстве, населённом в Средние века этносом полян-руси, то Киев и его сельское и городское окружение находятся на самом его севере. Южная граница полянской земли проходила по реке Рось, но эта территория в ту пору только осваивалась. Владимир Святославич начал строительство в Поросье оборонительной линии, продолжавшей древние Змиевы валы, и построил пограничные города – Корсунь (аналог греческого Херсонеса), Треполь (аналог сирийского Триполи), Халеб (аналог Алеппо), Богуслав; это значительно стабилизировало положение сельских поселений. Князья ездили в леса Поросья на охоту, но земледельцы чувствовали себя там не очень уверенно.
На левом берегу поляне составляли господствующее ядро славянского населения; более многочисленные местные жители, сивера, были скорее всего ославяненным полянами этносом иранского или кельтского, а по некоторым предположениям ещё готского корня. Земли вдоль Десны «тянули» к Чернигову, южные подходы к Киеву прикрывало Переяславское княжество. Южная граница постоянного населения Левобережья проходила по реке Суле, где также строилось продолжение Змиевых валов.
Змиевы валы у села Иванковичи в Киевской области
Южнее начиналось поле. Надо отметить два достижения местных земледельцев, резко повысившие культуру сельского производства. Во-первых, это – переход к трехпольной системе севооборота, при которой каждый участок раз в три года отдыхает под парами. Картина украино-русского земледелия была восстановлена замечательным украинским этнографом В. И. Довженкóм13. Известна была по летописным данным урожайность с площади, именуемой плугом, но неизвестно было, чему примерно плуг равен – это зависело от того, господствовали в хозяйствовании двухполка или трехполка. Как показал В. Довженок, на Украине-Руси Х—ХIII вв. господствовала трехпольная система севооборота. Это позволило примерно определить урожайность в те времена: при трехполке урожай был довольно высок – он составлял примерно сам-6,214. Эта система земледелия и эта урожайность сохранилась на многие столетия.
В. Довженок
Село первоначально обозначало не поселение (весь), а ниву, готовую к посеву15. В давние времена рядом с посевом в лесу находилась лишь небольшая избушка, а основное поселение в несколько домов было поодаль от нивы. И оно, как и сама нива, было непостоянным – ибо та система хозяйствования, которая дожила в лесных северных регионах в пережиточной форме даже до XIX века, а именно подсечно-огневая система или огненная ляда, требовала постоянной смены возделываемых земель. На выжженной и раскорчёванной площади леса урожай в первый год составлял сам-10, но уже через три-четыре года земля становилась пустошью и надо было готовить новую ниву.
В период после Х ст. на юге, на Украине-Руси огненная ляда уступает место постоянному ведению хозяйства на основе севооборота.
Во-вторых, в описываемый период тяжёлое и неуклюжее орудие вспахивания земли – деревянное рало с железным наконечником – было заменено собственно плугом. Отличие плуга от рала заключается в том, что благодаря т. н. полице плуг не просто вспарывает почву, как рало, а отваливает, переворачивает её пласты, что значительно облегчает труд, повышает его производительность и улучшает качество обработки земли. Полица стала тем народным усовершенствованием старого римского рала, пришедшего на Украину-Русь с Балкан, которое позволило поддерживать высокий технологический уровень земледелия вплоть до Нового времени.
Благодаря изобретательности наших безымянных крестьянских предков во времена Руси удалось повысить культуру земледелия настолько, что она продержалась на этом уровне до XVIII столетия. Это создавало на украинском юге более или менее надёжный аграрный базис для городской культуры.
Сеяли рожь, редко – пшеницу, которая шла главным образом на праздничные калачи, а также просо, ячмень, овёс, варили разные каши. Лён и, возможно, конопля шли на ткань и на масло. Держали коров, овец, коз, свиней, много птицы; едва ли не половину мясного стола составляла дичь. В реках и озёрах было множество рыбы.
При подсечно-огневом хозяйствовании среди прочих злаков самым важным и распространённым было просо, затем ячмень. Просо называлось бор (откуда украинское борошно – мука). До новых времён дожила древняя обрядовая песня «А мы просо сеяли, сеяли…», превратившаяся в детскую игру. Всякий злак вообще назывался жито (от жить). Новый злак на севере назвали рьжь, на юге у него по-прежнему сохранялось старое название – жито. Вскоре рожь стала основным злаком Руси.
В крестьянском и городском быту место нынешнего картофеля занимала репа. Её варили или просто парили, а впоследствии натирали на тёрке и заправляли солью и растительным маслом (откуда выражение «проще пареной репы»). Из свёклы и капусты на юге варили похлёбку, в которую для кислоты добавляли или щавель, или травку-борщевик (согласно К. Мошыньскому, она называлась борщ); это и был родоначальник знаменитых украинских борщей. Разводили пчёл – ставили в лесу высоко на деревьях борти или около дома устраивали пасеки. Из мёда готовили хмельной напиток либо сладкую сыту, которой обычно и заканчивали званый обед (откуда выражение «наесться дóсыта»).
Но основой питания на юге стал ржаной хлеб. Определяющая роль хлеборобства на юге Руси видна уже в термине събожье, укр. збіжжя, обозначавшем все продукты зернового хозяйства, но также вообще ‘достаток’, ‘имущество’, ‘добро’. (Термин събожье имеет иранское происхождение и сохранился, возможно, еще от «скифов-земледельцев». Аналогичный термин на русском севере – обилье). Чем бы ни занимался житель села, итогом его усилий было събожье. Труд крестьянина на земле был очень тяжёлым, но в результате семья имела около 200 пудов (3,2 тонны) хлеба и могла значительную часть его продать в городе.
Конечно, надёжность сельскохозяйственного базиса урбанистической культуры нельзя переоценивать – Украина находится в зоне рискованного земледелия и довольно часто страдала от неблагоприятных естественных условий. Летописи сохранили детальные описания засух, морозных зим, эпидемий и нашествий саранчи на протяжении Х—ХIII столетий. В голодные годы питались толчёной дубовой и липовой корой, мхом, толчёной соломой, ели мясо кошек, собак, мышей, крыс, лошадей и даже мертвечину. На муку мололи корни пырея, а весной, дожидаясь первых съедобных трав и плодов, варили крапиву, лободу, щавель и в особенности кашу из дикорастущей травы – манны.
И западная, и восточная Европа в это время переживает подъём городской жизни. Средневековый город развивается первоначально в Италии, Испании и французском Провансе в IX—X вв., затем в Х—ХIII вв. на трансальпийском севере западной Европы. Здесь базой урбанистического развития служили остатки римской цивилизации – городские каменные стены с башнями, акведуки, мосты, мостовые, старые римские дороги. Русь постепенно в эти же столетия становится «страной городов», как её звали скандинавы (Gardarika), но создаёт она свою городскую цивилизацию, можно сказать, собственными усилиями.
Размеры города и число жителей зависели от социально-культурного развития страны в целом; для тогдашней Европы большим городом был город с населением в 20—35 тыс. жителей.
Города Руси, как и города во всём мире, возникали из разных по функциям поселений – племенных центров, перекрёстков торговых путей, оборонительных пунктов, просто крупных селищ и городищ. Но достаточно было такому поселению достигнуть определённого числа жителей, как оно (в большинстве случаев) превращалось в град и уже жило городской жизнью независимо от особенностей происхождения. Такие гиганты, как Константинополь или Кордоба, были исключением.
Поскольку условия жизни и труда в селе были значительно тяжелее, чем в городе, городское население резко отличалось от сельского по своему физическому облику. Впрочем, в Киеве население было довольно разнообразным, здесь чаще, чем в других городах, можно было встретить чужеземцев, людей разных наций и культур. В Киев, а также и в другие южные города, «стекалось наиболее удалое население из бедных северных областей»16. В целом же археологи и антропологи констатируют, что население городов принадлежало к тому же физическому типу, что и население окружающих сёл. Миграция в основном ограничивалась территорией земли летописного «племени». Однако городской воздух делал что-то непонятное с людьми: горожане были выше ростом и здоровее, они дольше росли и дольше жили. «Во-первых, горожане по своему физическому облику в целом относятся к тому же антропологическому типу, что и жители села (в пределах территориальных границ одного племени)… Во-вторых, некоторые особенности в антропологическом облике городского населения по сравнению с сельским… объясняются, вероятно, изменением условий социальной среды в связи с урбанизацией»17.
По данным множества раскопок, средний возраст смертности среди мужчин этого периода на Руси колебался в границах 33,5—45,6 лет, для женщин – от 29,7 до 41,9 лет. А. Моця приводит данные о половозрастной структуре и физическом типе жителей Киева и села по материалам раскопок могильников Х—ХIII вв. на территории Киевской области (село Григорьевка близ Канева). В селе Киевской земли данные значительно более драматичны – средний возраст смертности для мужчин 29,7 г., для женщин 32 года. Сравним с показателями среднего возраста смертности для Киева: для мужчин – 40,7 г., для женщин – 46 лет. Это даже лучше аналогичных показателей смертности для западноевропейских городов. Средний рост мужчин составлял в селе 168,3 см, женщин – 155,1 см; в Киеве – 170,6 см, женщин – 160 см. Интересно, что жители посада на горе Щекавице по всем показателям существенно отличались от жителей верхнего Киева и принадлежали к сельскому типу18.
Очевидно, сказывалось то, что питались в городе лучше и разнообразнее, а труд был не так изнурителен. А. Моця предполагает, что сельское население – по крайней мере в исследуемой области, то есть на границе с опасным полем – находилось в стрессовой ситуации, что и приводило к быстрой смене поколений, низкой продолжительности жизни, высокой смертности в молодом и зрелом возрасте, очень высокой детской смертности.
Селения были маленькими, насчитывали по несколько дворов. Усадьбы того времени на Черниговщине детально исследует А. В. Шогун. Они относятся к ХI в., на южных окраинах Руси – к ХII ст.; можно предположить, что аналогичное формирование усадебной структуры поселений проходило на Киевщине немного раньше. Сельские усадьбы несколько больше по площади, чем городские, – от 400 до 1500 кв. м. Центром усадьбы был жилой дом (на юге в ту пору – преимущественно полуземлянка), к которому примыкали по кругу хозяйственные строения, оставляя около дома относительно свободный участок. Здесь располагались хозяйственные и зерновые ямы, погреб, полуземлянка для занятия ремеслом, другие хозяйственные помещения. Усадьбы явно рассчитаны на малую семью. Что очень важно, между ними зафиксированы ограды19.
В марксистской литературе переход от большой неразделённой семьи к малой рассматривался как процесс формирования частной собственности на землю, параллельный с процессом «разложения общины» вследствие роста имущественного неравенства. Следует заметить, что большая семья так же может быть собственником земельного участка, как и малая; во всяком, случае переход к малой семье непосредственно означает изменение не имущественной, а властной структуры семьи.
Становление и развитие государственных структур вовсе не обязательно должно означать исчезновение старых, родоплеменных; Китай создал мощное государство, сохранив и упрочив при этом род или клан цзунцзу как социальный институт. При этом, действительно, родовые (семейные) связи в некоторых отношениях вступают в противоречие с государственными; так, китайское государство требовало, чтобы каждый доносил о противоправительственных настроениях и разговорах, независимо от степени родственной близости обвиняемого, в то время как конфуцианская мораль требует тяжкого наказания за донос на родителей и близких родственников. Но с этим парадоксом жизненной практики китайская реальность смирилась: не донесёт сын, так донесёт сосед.
Таким образом, на практике родовой институт может сохраняться и при государстве, и более того – родовые и семейные связи в новом обличье и с новыми функциями обязательно переживают архаичное общество. Новое общество основано на социальном использовании сродства, по выражению К. Леви-Стросса20. Генеалогическое древо, частично действительное, а в дальних перечислениях первопредков – мифологическое, использует реальное или мнимое сродство всех членов группы в качестве условия и символа её существования. В основе этнических генеалогий – культ предков, давно забытый, но всё ещё живущий в до неузнаваемости изменённом виде.
Иллюзорная генеалогия и иллюзорное, но построенное по всем принципам сродства представление об этносе как кровнородственной группе («роде-племени») долго являлось основой самосознания этноса (нации, народности, летописного «племени»). До наших времён остались смутные представления о том, что нации (даже современные!) имеют общих предков и, стало быть, их связывает кровное родство, хоть и очень-очень отдалённое. Легенды о нации-роде (народе, латинское nation от nascоr ‘рождаться’) до сих пор социально используются для объединения разных по происхождению групп в одно национальное целое.
В ходу и представления о «народах-братьях».
Далее, не доказано, что в земледельческих культурах изначально господствовала коллективная собственность на землю некоей элементарной единицы – общины. Перераспределение земельных наделов между семьями зафиксировано достаточно поздно и, вероятнее всего, является средством поддержания патриархальной власти над селом, инициированным или поддерживаемым государством в своих собственных интересах.
Известно, что единицей организации сельского населения Руси была вервь – что-то вроде позднейшей общины. Приходится говорить «что-то вроде», так как социально-экономические функции верви нам почти неизвестны.
Как отмечает А. П. Моця, размеры штрафов, которыми в некоторых случаях облагалась вервь, значительно превышают возможности весей, мелких поселений. Поэтому естественно предположить, что в одну вервь объединялись гнёзда поселений, отдалённые друг от друга на небольшие расстояния. Возникает вопрос: связаны ли были жители одной верви также и родственными отношениями, или вервь – чисто территориально-соседская община «чужих», случайно оказавшихся рядом?
В своё время энтузиасты эволюционного подхода исходили из того, что сельская община как исходный пункт развития поземельних отношений образовалась на руинах родовых структур. В XIX в. живы были общины в России и Хорватии («Загребская полица»). Но российская община явно несла на себе печать патриархального придатка к государственному аппарату и помещичьему хозяйству, поддерживаемого государством из политических соображений. А хорватская полица при ближайшем рассмотрении оказалась состоящей из близких родственников. Очевидно, из родственников состояла и вервь Киевской Руси. Важно лишь, что она имела обязательства перед княжескими властями и перед своими членами, не связанные с родством. Родственная структура использовалась как социальная. Можно лишь утверждать, что для объединения поселений в одно гнездо-вервь его жители вовсе не обязательно должны были быть родственниками.
К сожалению, период Руси не оставил документов хозяйственного характера, которые позволили бы восстановить картину сельской экономики того времени. Отрывочные сведения, которыми мы располагаем, больше ставят вопросов, чем дают ответов. Так, известно из летописи (запись под 1146 г.), что у князя Игоря Ольговича в его хозяйстве под Путивлем грабители забрали 900 стогов хлеба.
Это – урожай примерно со 100 десятин земли. Но чьи это были десятины и кто на них работал?
Возможны разные ответы на этот вопрос. Это могли быть хозяйства свободных крестьян, с которых они платили дань своему князю – так, как с незапамятных времён князья с дружиною собирали у подвластных крестьян полюдье. Но, возможно, у князя (и у боярина) было своё собственное хозяйство. Автор «Моления Даниила Заточника» предостерегает: «Не имей себе двора близ царёва двора и не держи села близ княжого села: ибо тиун его – как огонь, на осине разожжённый, а рядовичи его – что искры»21. Но кто работал на поле князя под началом его холопов-администраторов? Кто работал в селе, которое «держал» человек, подобный Даниилу Заточнику? Рабы? Свободные крестьяне-«смерды»? Рядовичи или «ролейные закупы»? Какие-то иные категории лично зависимых людей? Или, может быть, свободные крестьяне имели обязанность сколько-то дней в неделю работать на княжьем поле, то есть зависимость была чисто феодальной? Можем ли мы считать Киев феодальным городом?
Автор «Моления» претендует на роль княжьего человека, он – свободный, но не знатный людин, а опасаться ему приходится холопов князя – тиуна и рядовича.
Прямых ответов на эти вопросы источники не дают, а между тем от этого зависит общее представление о характере и этапах социально-экономического развития на землях Руси, в том числе в её городах. Ясно лишь, что ответа на все эти вопросы следует искать не в селе, а в цивилизационном центре – в городе, и прежде всего – в стольном граде Руси, Киеве.
11
Моця О. П. Південна «Руська земля». К., 2007. С. 122—123.
12
Там же.
13
См.: Довженок В. Й. Землеробство в древній Русі до середини ХІІІ століття. К., 1961.
14
Сам-6,2 – старинное выражение, означающее, что уродило в 6,2 раза больше с той же площади поля (прим. сост.).
15
См.: Колесов В. В. Мир человека в слове древней Руси. Л., 1986.
16
Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян. М., 1973. С. 125.
17
Там же. С. 131.
18
См.: Моця Олександр. Південна «Руська земля». К., 2007. С. 170—173.
19
См.: Моця Олександр. Південна «Руська земля». К., 2007. С. 125.
20
См.: Bourdieu Pierre. Lesensepratique. P., 1980. Есть украинский перевод: Бурдьє П’єр. Практичний глузд. К., 2003.
21
Памятники литературы древней Руси. М., 1980. С. 393—395.