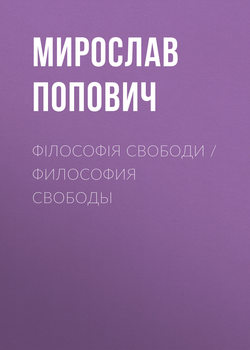Читать книгу Філософія свободи / Философия свободы - Мирослав Попович - Страница 9
Частина 1
Семіотика Києва
Часть 1
Семиотика Киева
Древний Киев – столица Руси
Мир города. Киев как город
ОглавлениеГород прежде всего отличается развитием торговли и ремесла. Городская цивилизация создаёт унифицированные системы мер, в том числе и денежные, тяготеющие к общемировым стандартам. Денежная единица – гривна – как единица веса вела родословную через арабский Восток от древневавилонской мины. Давняя мина золота шла на изготовление 96 арабских динаров, которые ходили также и на Руси. Гривна золота была равна мине и весила 409 г. Столько же весил пришедший гораздо позже немецкий фунт. Князья Владимир Святой, Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый били свою золотую монету – златницу, составлявшую 1/96 золотой гривны (1 золотник, теоретически равный динару). Таким образом, гривна золота весила 96 золотников. Гривна серебра весила больше – 128 золотников, из неё били 192 серебряных золотника – по 2/3 на один серебряный арабский диргем. Один динар – один золотой золотник. Три диргема – два серебряных золотника22.
В дальнейшем нехватка сырья не позволила Киеву иметь свой монетный двор, и потребность в деньгах удовлетворялась известным в разных культурах способом – шкурками, главным образом куницы. Существовал своеобразный «биметаллизм» мехов и серебра как денег. Мехами и платили дань, и торговали с зарубежьем; самые дешевые меха – беличьи, дорогие меха – горностая («белый мех» или «бела» летописей23), соболя («чёрная куна»). Шкурка с отрезанными лапками называлась резана, целая – ногата; в X—XI ст. гривна кун равна была 30 (по другим данным, 20) ногатам, 25 кунам или 50 резанам, в следующем столетии эти деньги обесценились вдвое. Конечно, расплачиваться ногатами и резанами было неудобно – летопись сообщает, что для выплаты «зарплаты» рабочим, сооружавшим Ирининскую церковь, князь Ярослав прислал две подводы шкурок. Но хозяйство было в основном натуральным, денег было мало, и они были дорогими, до национальных валют и бумажных денег было ещё далеко, деньги тогда, как и по всей Европе, ходили и свои, и чужие. Металлические гривны стирались или изготовлялись всё более низкого качества, так что реальное золотое или серебряное содержание монеты всё менее соответствовало её номиналу.
Новгородская гривна из селища в районе Копорья
На территории Руси найдено около 130 кг серебряных монетных гривен, около трети из них – в Киеве. Можно считать, что в Киеве «крутилось» около трети всех денег, ходивших на Руси. Киев, таким образом, был как бы финансовым центром «всей Руси». Но можно сказать и больше – Киев был самым богатым городом и средоточием богатств страны. Имущество среднего обитателя Руси было весьма убогим, и если археологи находят в остатках обычного дома на Подоле стеклянные шашки, а в развалинах ювелирной мастерской – бочонок с тёмным киевским янтарём, то можно представить себе, сколько богатств хранили церкви или кованые княжеские сундуки.
Несколько примеров позволит представить масштабы цен. Поросёнок или баран стоил 1 ногату, самое дешёвое – постное – второе блюдо в харчевне (корчме) – 1 резану. Крестьянский конь стоил 2 гривны, боевой конь – 3 гривны. Стадо коров в 100 голов стоило 80 гривен, то есть корова стоила меньше гривны. Княжескому представителю по сбору виры (вирнику) в «командировке» полагалось на неделю 7 ведер солоду, баран, половина говяжьей туши – всё на сумму 2 ногаты. В среду и пятницу (постные дни) – по сыру, ценой в 1 резану; ежедневно 2 куры, хлеб и пшено сколько потребуется, овсяное довольствие на 4 коней – всё вместе на 15 кун (почти полгривны кун).
Раб («обельный холоп», «кощей») стоил 5 гривен, рабыня («роба», «чага») – 6 гривен. За убийство свободного («людина») в княжескую казну платился штраф в 40 гривен, за убийство княжьего человека высшего ранга – тиуна (управляющего) – вдвое больше, 80 гривен. Как за хорошее стадо коров.
Некая женщина с дочерью работала по найму с оплатой 1 гривну каждой за год.
Дружинники в старое доброе время, о котором писатель сожалеет, были скромными и требовали с князя не более 200 гривен в год.
Некий боярин Иван оставил своему сыну наследие («задницу») в 1000 гривен серебром и 160 гривен золотых. Сын варяга Шимона, человек князя, подарил Печерскому монастырю 500 гривен серебра и 160 гривен золота.
Юг Руси – Украина-Русь – до начала Х века жил в землянках или полуземлянках, обогреваемых печью – каменкой или глиняной. Стены, иногда обложенные досками или брёвнами, обмазывались известью, пол – глиной. Наземные деревянные дома господствовали на севере. Но в описываемый период полуземлянки и на юге вытесняются довольно просторными наземными сооружениями, прежде всего в городах. Когда в 1960—1970-х гг. в Киеве на Подоле прокладывали метро и велись интенсивные археологические раскопки, учёные ожидали найти здесь, в ремесленном посаде, старые землянки или полуземлянки; но оказалось, что все дома были наземными бревенчатыми сооружениями. На полуподвальном «партере» находились хозяйственные помещения, вход в дом шёл, очевидно, на первый этаж снаружи по лестнице. Богатые дома имели сени – открытые террасы на втором этаже, а также терем – сооружение типа башни с комнатами наверху. Дома топились «по чёрному», тёплый дым собирался под потолком и выходил через дверь. Только с XIII ст. дома в Киеве отапливаются «по белому» – дымоход выводит дым наружу, грел не дым, а печка.
«По чёрному» топились и бани. Первоначально мылись в тех же полуземлянках, в которых жили, – топили печь, раскаляли камень, поливали его водой. Затем бани начали строить иногда в полуподвале, затем и отдельно от жилья. Как сообщает летопись, епископ Переяславский Ефрем в 1090 г. первым построил рядом с церковью каменную баню; была каменная баня и в Киеве рядом с Десятинной церковью. Бани строились так же, как их строили греки и армяне. Однако в славянском мире бани не стали таким элементом публичной жизни, как на востоке. Характерно, что в фольклорном «смеховом» мире, мире «навыворот» («опричном»), баня соответствует церкви «нормального» мира как её антипод.
Летописец-киевлянин посмеивается над новгородцами, которые хлещут себя в бане вениками; новгородцам же казался смешным обычай южан обмазывать дома белой глиной.
Одежда крестьян и горожан была однотипной – порты, то есть полотняная рубаха и узкие полотняные же брюки-гачи, далее свита и вотола – плащ из грубого полотна. Особая городская одежда складывается в XII веке. В селе обувь – это лапти из кожи или (главным образом) из лыка, а горожане обувались преимущественно в сапоги (шитые как чулки, без плотной подошвы), кто побогаче – из сафьяновой цветной кожи, да ещё и расшитые узорами. Интересно, что в Киеве были мастерские по производству лаптей, то есть ремесло, предназначенное исключительно для продажи изделий сельским жителям. И ведь находились крестьяне, которые покупали в городе лапти!
Посуду славяне лепили руками, только в IX в. восточнославянский регион воспринимает гончарный круг, но в Киевской земле круг побеждает столетием раньше. Интересно, что киевские гончары изготавливали преимущественно высококачественную и художественную керамику, тогда как потребности киевлян в расхожей посуде удовлетворялись гончарными мастерскими Вышгорода и Белгорода.
Ссылки на численность или площадь поселения допускают слишком много исключений из правила – есть очень маленькие города и очень большие сёла. Апелляция к занятиям населения растениеводством или животноводством, к сосредоточению в городе ремёсел и торговли правильна по существу, но всё же не очень убедительна – удельный вес ремесленного населения в тех давних городах не очень велик, большинство горожан имело огороды и держало скотину. С другой стороны, такие важные для древности ремёсла, как выплавка железа в болотных руднях и кузнечное дело, связаны с селом не меньше, чем с городом. До недавнего времени переводчики переводили выражение из «Слова о полку Игореве» мечи харалужные как «мечи булатные», и лишь недавно археологические раскопки показали наличие в селе Харалуги на Волыни следов развитой металлургии времён Киевской Руси. Самый ходовой товар времён Руси, преодолевавший огромные расстояния и необходимый в каждом доме, – шиферные пряслица; эти пряслица изготавливались в районе Вручия (ныне Овруч) и распространялись по всей Руси и «верхних землях». Самые дорогие товары – оружие, шлемы и шишаки, кольчуги и прочее снаряжение воина, дорогая и мастерски украшенная конская сбруя, а также украшения и роскошные одежды – изготавливались прежде всего в княжеских дворах собственными мастерами князя.
Что такое город, как его отличить от села, веси, деревни и как там ещё называли поселения Руси, привязанные к ниве, к земледелию? Как определить тот рубеж, за которым село превращается в город?
Древние шведы – «варяги» – называли Русь «страной городов» (Gardarika), но при этом различали gard и borg. Западные города были не gard, а borg, однако дело было не в размерах – крупнейший город Европы, Константинополь, назывался Miklagard. Gard дома, в Швеции, означал любое ограждённое поселение, а на востоке три больших города составляли ось – Holmgard (Новгород), Kaenugard (Киев), Miklagard (Константинополь). Возможно, это терминологическое различие отражало нечто более существенное: в западноевропейских «бургах» был замок феодала, в центре которого находился собственно дом-крепость – башня донжон; а торгово-промышленный люд, собственно горожане, имел свой центр – ратушу. На Руси град-«гард» не имел самоуправления и представительства, кроме общих вечевых собраний на торжище, а роль замка играл окружённый стенами детинец (кремль), в котором находились и церкви, и княжий двор.
Город, как правило, ограждён оборонительными укреплениями, но градом называли также ограждённую и укреплённую усадьбу на селе, в которой постоянно или время от времени жил знатный городской человек. К тому же следует различать собственно город и окружённое стенами городище.
Когда цивилизация приходит в упадок, это находит выражение прежде всего в упадке городской жизни, в частности в аграризации городов. Падает число горожан, в запустение приходят старые дома и церкви, по старинным площадям, зарастающим травой, бродят козы. Но старый город не просто приходит в запустение – деградирует тип поселения, город становится «большой деревней». Логично допустить, что расцвет городов как особого типа поселений означает прежде всего вытеснение земледелия за городские стены. И хотя подобная «деаграризация» сопутствует прогрессу городов, всё же дело не только в ней. Хотя огороды и домашний скот сохраняются в средневековом городе, они подчиняются общей специализации занятий.
Историки единодушны в том, что появление города связано с отделением ремесла от сельского хозяйства. Нередко город и описывают, начиная с кузниц, гончарных печей и ремесленных лавок. Недостаточность такого подхода в том, что существо урбанизации усматривается в производствах. Но дело не просто в материальном производстве, его развитии и дифференциации. Город создаёт невиданную ранее концентрацию ценностей, как материальных, так и духовных. И это неизмеримо ускоряет общий процесс развития культуры.
Городская жизнь порождает новое понимание богатства – уже не как събожья-обилья, а как разнообразия всех возможных продуктов производства, в том числе и купленных, и завоёванных. Но, упомнив о церковных и княжьих сокровищах, мы вынуждены принять во внимание, что килограммами и метрами ценности измерить невозможно. Само богатство имело символическое значение, в том числе престижное.
До сих пор существуют архаичные культуры, которые стремятся свести к минимуму множество вещей, поддерживая прежде всего навыки и опыт их изготовления. Культуры бродячих собирателей, охотников и рыболовов характеризуются именно таким отношением к вещам, и подсечно-огневое земледелие поддерживает подобные культурные тенденции.
Культура – это, вообще говоря, некоторое множество вещей, созданных человеком или включённых в его жизнедеятельность. По крайней мере так определяют археологическую культуру. Но, наверное, культура есть прежде всего способность сделать вещи и их использовать.
Переход земледельцев к стабильным поселениям и севообороту способствует восприятию культуры прежде всего как совокупности предметов – продуктов труда, умственного или физического, вещей как концентрации человеческого опыта. Но если събожье в сельском быту – это прежде всего совокупность продуктов, которые будут съедены, выпиты или потреблены в хозяйстве иным способом, а не передаются потомкам в вещном виде, то в городской культуре богатство – это прежде всего совокупность вещей как ценностей, в том числе как сокровищ. Городской образ жизни сильно стимулирует обрастание семьи нужными и прагматически ненужными, но социально и символически значимыми предметами. В частности, сокровища, в том числе и деньги, хранятся в тайных местах, зарываются в землю, изымаясь тем самым из обращения и даже теряя престижный характер, поскольку их никто не видит. Согласно летописи, увидев княжеские сокровища, немецкие послы заметили: «се бо ни во что же есть, се бо лежит мёртво»24. Закапывание сокровищ нашим современникам представляется чем-то вроде хранения их в банке. Но в киевские времена церковь осуждала обычай прятать сокровища в землю как языческий, – и, действительно, богатства как бы обрекались на общение с «нижними» силами земли. Не будучи предметом и средством прагматически выгодного обмена, вещь-сокровище служит всё тем же целям накопления смыслов. Через накопление предметов идёт убыстряющееся накопление культурных ценностей.
Обнесение города стенами имеет не только прагматическое оборонное значение, но и символический смысл: город как бы отворачивается спиной к «чужому» природному и человеческому окружению. Обход поселения или опахивание его по кругу всегда были символическими охранительными действиями, отделявшими свой мир от опасного чужого. Но возведение оборонительного пояса вокруг поселения превращает город в нечто целое, подобное родному жилищу. Стены и дверь-ворота осмысливаются как атрибуты и города, и дома. Город-дом является целостным окультуренным, очеловеченным пространством, противостоящим дикому полю или лесу. Теперь у него появляется своя сложная городская жизнь.
Сельский тип поселения в эпоху Руси – это несколько домиков, в которых не столько живут, сколько ночуют и прячутся от непогоды. Жизнь сельского труженика в основном проходит вне дома. Укрыться от зла, от врага – значит спрятаться, в частности в лесу, который, вообще говоря, тёмен и враждебен. Дом – средоточие мира «своего», он максимально освоен; чем дальше от дома и двора, тем более чужим становится мир. Дорога-«гостинец» и особенно перекрёсток дорог опасны, как способы общения с незнакомыми людьми и «гостями»-покойниками (в том числе покойными предками, навещающими дом в определённые праздничные дни). Но и в своём доме надо находить компромиссы с опасными духами, его хозяевами – домовыми. Город же явно отделяет мир своего, упрятанный за городскими стенами, от мира чужого. Горожанин охраняем от окружающего, храним поясом стен – поясом, который, как и в одежде человека, является символом защиты жизни, целостности и полноты бытия. «Отрешити пояса» значило ‘лишить должности’. Стеснённость, скученность, даже бедность и грязь – та цена, которую человек платит за принадлежность к целостности и разнообразию городской жизни.
С точки зрения чужого, завоевателя город представлял собой несравненно более привлекательный объект военного промысла, чем сельские поселения: здесь много такого, о чём он даже мечтать не мог. И защита накопленного за городскими стенами богатства – первая обязанность властей города.
Город – средоточие цивилизации, то есть той культуры, которая вырабатывает свои собственные правила и нормы, живущие не в традиции, а в письме, в книгах.
Если рассматривать город как явление культуры, с точки зрения не просто материальных проявлений прогресса, а его духовной сущности и культурного смысла, то появление городского типа поселений как бы меняет ориентацию культуры на внутренние городские проблемы и ценности.
В Византии, которая оставалась для Руси образцом цивилизационного устройства, явно формулировалось основное правовое отличие города от села: наличие писаного права. В 73 новелле Юстиниана говорится: «Мы желаем, чтобы всё это (писаное право. – М. П.) было действительным для городов. В деревнях же, где всё гораздо проще и где ощущается большая нехватка умеющих писать и могущих свидетельствовать, пусть и сейчас остаются непоколебимыми те правила, которые в них были действительны до сего времени»25. Несмотря на все различия Нового Рима VI века и Руси X – XIII веков, отмеченное византийскими юристами обстоятельство является решающим: город как мир книжной, говоря более общим образом – профессиональной, «высокой» культуры с нормами, принимаемыми не через (устную) традицию, а творимыми (на письме) сознательно, противостоит селу как царству неписаной традиции.
Обращает на себя внимание то место цитируемой новеллы Юстиниана, где высказывается сожаление по поводу нехватки «умеющих писать и могущих свидетельствовать». Свидетель должен был быть обязательно «добрым человеком». Между 1226 и 1230 годами в Германии была записана правовая система – «Саксонское зеркало», в которой явным образом формулировалось понятие «добрый человек», т. е. человек, могущий быть свидетелем: свидетельствовать может только тот, «чьи права не были опозорены на протяжении четырёх поколений предков, то есть со стороны обоих дедов и обеих баб и отца и матери»26. Впоследствии через Магдебургское право эти положения входят в действовавшие на Украине «Литовские конституции» XVI века, а понятия «свидетель» и «добрый человек» расходятся, круг свидетелей становится ýже круга «добрых людей»27. Согласно «Саксонскому зеркалу», для того, чтобы человек мог свидетельствовать в суде, должны быть известны жителям города в качестве «беспорочных» его родственники до четвёртого колена. Отметим аналогию с определением родства: до четвёртого колена запрещались также и браки родственников.
Подобных уточнений понятия «добрый человек» в «Русской правде» нет, но в летописях встречается выражение «добрый послух» (‘свидетель’). Можно предположить, что понятие «добрый человек» как возможный «послух» было в употреблении и в Киевской Руси. В церковном праве Руси определялись также поколения, в пределах которых невозможны браки. Таким образом, существовало некое соответствие между степенями родства в проблемах брака и степенями знакомства в проблемах признания своим («добрым»). Семейно-родственные структуры стали парадигмой, образцом для территориально-соседских. Можно думать, полноправным человеком (свидетелем в случае нужды) на Руси считался представитель той местной семьи, несколько поколений которой были известны (знаны) городу как люди «беспорочные», «добрые», «честные» .
Речь идёт и об институте «послухов»-свидетелей, и – тем самым – о статусе людей без роду-племени, блуждавших по Руси в поисках счастья-доли и оседавших, возможно, в сельских общинах, но преимущественно в городах, в частности в Киеве. Работы грузчикам, строителям, разному случайному люду в порту и на торгу хватало. Если князь Ярослав платил шкурками наёмным строителям Ирининской церкви, то и позже нанимали рабочих за подобную «зарплату». В городе существовала прослойка людей без роду и племени, живших случайными заработками и составлявших социальное «дно». Поучительная литература наполнена упрёками в адрес простолюдинов-«корчемников», проводивших время в харчевнях Киева. Епископ Белгородский в своём «поучении» обращается к «простой чади», то есть к нижнему слою горожан, и в этом обращении уже наличествует определённая социальная классификация: «Приблизьтесь, все мужи вместе и жёны, церковные и светские, монахи и попы, богатые и бедные, местные и чужеземцы…!» Епископ предостерегает разношерстую паству против пьянства: «Когда вы упьётесь, тогда вы блудите и скачете, кричите, поёте и пляшете, и в дудки дудите, пьёте чуть свет, объедаетесь и упиваетесь, блюёте и льстите, злопамятствуете, гневитесь, бранитесь, хулите и сердитесь, лжёте, возноситесь, срамословите и кощунствуете, вопите и ссоритесь, море вам по колено, смеётесь, крадёте, бьётесь, дерётесь и празднословите, о смерти не помните, спите много, обвиняете и порицаете, божитесь и укоряете, доносите, – ну как же святому крещенью не тужить из-за вашего пьянства?»28 Это – не только психологический, но и социально-культурный портрет опустившихся горожан из разных социальных страт.
Собственно, для людей, оторвавшихся от близких, от родной среды, существовал специальный термин – изгой. Изгои принадлежали к числу так называемых церковных людей, подлежавших церковному суду в случае возникновения между ними дел об обиде или тяжебных и наследственных дел. Это были «…люди, так или иначе выбившиеся из колеи или не принадлежавшие ни к одной из тогдашних официальных общественных групп, как, например, холопы, выкупившиеся на волю, обанкротившиеся купцы, безместные поповичи и т. д.; изгои отдавались в ведение церкви целыми сёлами, вместе с землёю, на которой сидели»29.
Ситуация, когда никому не известный искатель счастья-доли бродил по Руси и погибал одиноким где-нибудь в лесу или среди поля от болезни или от руки татя-грабителя, была для того времени довольно типичной. В случае, если труп человека будет обнаружен на территории верви, вервь должна была или довести следствие до конца и самостоятельно найти виновного или (до реформ Мономаха) платить «дикую виру», принимая на себя ответственность за случившееся. Если же никто не искал пропавшего и власти не знали об убитом, его останки, бывало, так и истлевали непогребёнными. Церковь предписывала верующим похоронить тело неизвестного человека, если оно будет обнаружено на ничейной земле.
Ходили по Руси в поисках заработка и квалифицированные мастера. Так, «Киево-Печерский патерик» рассказывает о том, как пришли из Цареграда в Киев к Антонию и Феодосию в Печерский монастырь греки – «четыре мастера церковных, люди очень богатые», и поставили в монастыре церковь30. Есть упоминания и о пришлых «кавказцах» – скорее всего, армянах и (или) грузинах. Некий лекарь-армянин, по рассказу из «Киево-Печерского патерика», лечил князя Всеволода и сына его Владимира Мономаха.
Короче говоря, в Киеве было достаточно и свободных мастеров, и «пролетариев», готовых за определённую плату пойти в услужение в разных социальных формах. Однако было бы ошибочно делать вывод о том, что Киев, как и другие города Руси, состоял в большинстве или в значительной степени из никому не известных изгоев. Типичный («честный») горожанин – это человек, который прожил в городе всю свою жизнь и родители которого вплоть до бабки и деда ничем себя в этом городе не запятнали. И нередко это были люди весьма зажиточные.
Существовало ли в Киеве и тогдашних городах Руси некое подобие цеховой организации? Цеха в собственном смысле слова как средневековые ремесленные корпорации со своими уставами и обычаями пришли на Украину из Германии через Польшу значительно позднее. Но нельзя не отметить, что цеховая организация ремёсел опиралась на социальные формы, уходящие своими корнями в глубокую древность, во времена тайных мужских союзов. Кстати, само слово die Zeche по-немецки означало обрядовую пирушку (как и французское métierr или итальянское arte). Цеха и в Новое время назывались по-старинному братствами, их члены – братьями, а пирушка – братчиной. Какова бы ни была иерархия древних братств, она строилась по модели семьи («челяди») – по образцу властных отношений «отец – дети». Самые младшие члены корпорации, ученики, не имели, по-видимому, никаких прав вообще, как и малые дети в семье. Члены ремесленного братства-корпорации были связаны узами солидарности, закреплёнными какими-то обрядами, имели, вероятно, свою символику, свои праздники, свои корпоративные нравственные нормы и санкции за их нарушения. Пережиточные формы этих древних мужских союзов мы встречаем в цехах XVI – XVII веков. Характерно, что на Украине убийство во время цехового праздника не подлежало рассмотрению государственных органов и являлось внутренним делом цеха, что, несомненно, свидетельствует об очень старом обычае и большой независимости древнего ремесленного объединения от государственных органов.
На западе Европы горожане давали клятву верности городу, а не цехам или иным объединениям. Город, таким образом, выступал в роли корпоративного целого, социального субъекта, процветанию которого подчинена индивидуальная жизнь и деятельность; горожанин находился в отношении conjuratio cо всеми своими земляками-согражданами31. Был ли град на Руси такой же самодовлеющей ценностью? Можно утверждать одно: в летописном материале встречаются термины, обозначающие как целое жителей данного города, горожан, сопоставляемых с князем или противостоящих ему, в частности, кыян – жителей Киева (может быть, всех, но скорее или чаще всего – глав семейств, мужей). С другой стороны, город как целостность представлен князем или князем и дружиной; подлинным представительным городом является верхний город, в Киеве – Гора, на которой живут князь и «нарочитые мужи», близкие к нему «лучшие люди». Наконец, символом и репрезентантом города как такового, как целого является его главный храм. Киевская София была, как отмечал С. С. Аверинцев, той частью города, которая равна целому.
22
См.: Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России и СССР. М., 1966.
23
Кузьмин А. Г. Термин «бела» древнерусских памятников. – Средневековая Русь. М., 1976.
24
Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1843. Стлб. 710.
25
Цит. по: Медведев И. П. Правовое образование в Византии как компонент городской культуры // Городская культура. Средневековье и начало Нового времени. Л., 1986. С. 8—9.
26
Цит. по: Яковенко Наталя. Паралельний світ. К., 2002. С. 112.
27
Там же. С. 111.
28
Поучения к простой чади // Памятники литературы древней Руси. XII век. М., 1980. С. 495.
29
Никольский Н. М. История русской церкви. Минск, 1990. С. 87—88.
30
См.: Києво-Печерський патерик. К., 1991. С. 5.
31
См.: Вебер Макс. Город // Макс Вебер. Избранное. Образ общества. М.,1994. С. 341 и дальше.