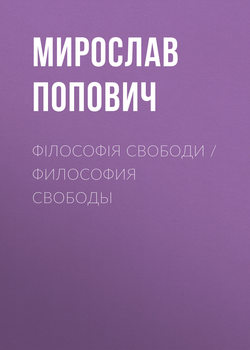Читать книгу Філософія свободи / Философия свободы - Мирослав Попович - Страница 17
Частина 1
Семіотика Києва
Часть 1
Семиотика Киева
Древний Киев – столица Руси
Дружина
ОглавлениеВ связи с Киевским восстанием 1068 г. историки спорят о том, почему Изяслав не вооружил киевлян и не пошёл с ними на половцев. Л. В. Черепнин полагал, что у Изяслава просто не было ни коней, ни оружия (так думает и П. П. Толочко)81; другие историки видели в отказе Изяслава страх перед восставшими народными массами. Но обратим внимание на то, что народ мог получить у князя и коней, и оружие – всеобщее вооружение с помощью князя киевлян, как и иных горожан, было, очевидно, в обычаях времени. «Полк» (позаимствованное у готов folk) означало и ‘вооружённый народ’, и ‘поход’; «Слово о полку Игореве» иллюстрирует эту двойственность смысла. Иногда народ требовал у князя снарядить вылазку против каких-нибудь врагов, чтобы захватить добро и людей, – примеры тому описаны в летописных материалах. Князья – по крайней мере удачливые и не очень бедные – имели собственные конные хозяйства и запасы оружия.
Но наряду с эпизодическим всенародным вооружением (ополчением) войско составляла постоянная дружина. Малая дружина была всегда при нём, в случае нужды призывалась и большая дружина. «Большие» и «меньшие» в то время означало также «старшие» (главные) и «младшие» (не главные), хотя обычно малую дружину рассматривают как постоянное ядро большой, самое надёжное и близкое окружение князя. Не исключено, что младшая дружина – нечто вроде его личной охраны, пребывавшей в статусе полного подчинения военному вождю. Именно с младшей дружиной Новгородский князь Александр нанёс поражение небольшой шведской экспедиции на Неве, что впоследствии изображалось как судьбоносная победа, принесшая князю задним числом звание Невского. В большую дружину входили опытные воины, призываемые князем в случае военной нужды со своей челядью. Старших и более опытных княжих людей называли боярами (вероятно, от тюркского; могло это слово прийти с христианством от болгар. Боиляр, боляр – множественное число от боил, термин, у тюрков-булгар обозначавший высокий ранг иерархии, соответствовавший греческому патрикий). Младшая дружина действительно была младшей по рангу, так как находилась на положении челяди князя; с другой стороны, она реально была выше, так как близость к князю давала возможность влияния. С XII ст. малую дружину называют дворянами; именно из дворянства формируется княжеская администрация.
Княжеская дружина. Дружина князя Бориса (из «Жития Бориса и Глеба»)
Франко Кардини, исследовавший образование рыцарства как сословия и как особой культурной группы средневековой Европы, отмечает самый существенный, с его точки зрения, момент: вступление (через ритуалы инициации) молодого человека в сообщество, не связанное кровнородственными узами, но объединённое гораздо более мощными связями – доблестью и общностью судьбы, в особое братство – братство по этическому содержанию отношений82. «Итак, с одной стороны, «род» (Sippe) со своим хтоническим культом общего предка, правами-обязанностями, которые отдельный человек возлагает на себя по отношению к единокровным. С другой – воинское сообщество, сплочённое вокруг своего сюзерена. Эта группа следует за своим вождём, они его друзья-телохранители, по-немецки Gefolgschaft, где акцентируется вертикальная система «вождь—рядовой», по-латыни comitatus, термин, передающий горизонтальную связанность отношений между боевыми друзьями, групповую солидарность равных друг другу товарищей»83.
На организацию славянских дружин оказали влияние скандинавские дружинные обычаи.
В военном быту древних скандинавов оставались существенными и отношения родства, и отношения типа comitatus, нем. Gefolgschaft. Дружина называлась у новгородцев по-шведски – гридь (это слово перешло затем и на «украинский» юг). Гридь пировала, а быть может, и ночевала в гриднице – большой комнате в княжеских хоромах. Griđ в скандинавских странах означало ‘дом, постоянное место жительства, где человек находится на службе, дружина’84. Вся структура дружинных отношений у скандинавов соответствует древнерусской. «Муж» («бонд»), то есть свободный домовладыка, возглавлял семью, в которую входили и сыновья, и домашние слуги, и прочие молодые люди, объединённые названием huskarl, соответствующим славянскому челядин. Они образовывали первичный военный и хозяйственный коллектив и являлись личной охраной главы семьи. Бонд мог пойти в военный поход за славой и добром самостоятельно со своими воинами-охранниками, мог бросить клич и в компании с такими же отрядами бондов в качестве их предводителя двинуться в поисках приключений и сокровищ. Это воспроизводит в военной организации сообществ семейно-родовой принцип. Но наиболее важные походы инициировались не отдельными вожаками, а конунгом. Термин конунг переводится обычно как король, но это мог быть просто военный предводитель знатного рода, особенно знатного, если он был родственным королю. Такой поход уже совершался по принципу Gefolgschaft. Кстати, (родственное ему?) древнешведское слово félagi обозначало товарищей по торговым предприятиям, но, по мнению некоторых учёных, имело и более широкое значение – ‘участник одного похода викингов’85. В таком случае этот термин полностью соответствовал термину товарищ.
Какую-то часть княжеской дружины составляли на Руси также аланы – предки современных осетин.
Военный быт древних осетин хорошо исследован Аланом Чочиевым86. Отметим здесь одну характерную, с интересующей нас точки зрения, черту: в военный поход аланы-осетины уходили либо по призыву отдельных мужей – и в этом случае ему следовали родственники, либо как на регулярное общее мероприятие – и тогда все участники похода, не будучи родственниками, были в положении собратьев.
Организация молодых людей, ищущих чести и славы и не связанных родственными узами, но объединённых более эмоционально окрашенными узами воинского братства, – явление различных обществ и этапов социального развития. В армии Чингиз-хана такую роль выполняли отряды «людей длинной воли». Идея дружины как объединения друзей оказалась очень сильной также и эмоционально. Первоначально, по хорошо обоснованному предположению Вяч. Вс. Иванова, слово druh- обозначало враждебное демоническое существо, откуда близость семантики слов другой и иной, чужой. Но затем другой превращается в освоенного, своего другого, как после брака превращаются в родственников (свойственников) члены «освоенного чужого» рода жены. Праславянское *drugъ ‘товарищ, приятель’ родственно литовскому draugas ‘спутник, товарищ’ (ср. выше скандинавское félagi). На историческую память и культурное самосознание восточных славян, украинцев в особенности, психология дружинного единства оказала сильное влияние. На Украине обряды сватовства и женитьбы оформились как обряды создания дружины (по-украински одруження значит ‘женитьба’, дружина – ‘жена’). Поздний отзвук идеологии неродственного войскового братства-товарищества мы встречаем в Запорожской Сечи. Прекрасно эту идеологию выразил Гоголь словами своего Тараса Бульбы: «Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чём стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек»87.
Князь был военным предводителем, и дружина была подчинена его воле. В поучении сыновьям Владимир Мономах гордится тем, что всю жизнь провёл в разъездах. Молодых князей он призывает хоть изредка произнести молитву «Господи, помилуй!» – всё же лучше, чем всё время проводить в седле, «нелепицу мысля». Будучи военным вождём и повелевая подвластными ему дружинниками, князь тем не менее – по крайней мере в представлении современного ему общества – обязан был «думать» вместе с дружиной и как бы выполнял то, что они вместе «сдумали». В «Молении Даниила Заточника» об этой «думе» говорится даже так, как будто князь лишь выполняет принятое дружиной решение: «Ведь не море топит корабли, но ветры; не огонь раскаляет железо, но поддувание мехами; так и князь не сам впадает в ошибку, но советчики его вводят»88.
Князь оставался как бы первым среди равных воинов, ему надлежало постоянно находиться в военных походах, объездах своих земель, наконец, на охоте.
Но наряду с нравственным дружинная организация войска имела прежде всего военно-политическое значение, так как была связана с определёнными расходами и предполагала определённую схему боевых действий. Каждый участник военного похода должен был иметь боевую одежду (броню) – рубаху, плетенную из металлических конец (кольчугу), шолом (изголовье с высокой колоколовидной тульей и длинным шпилем) или шишак (полусферическая каска с наушами, назатыльником, козырьком и носовой стрелкой). В послемонгольское время броню заменили доспехи с закреплёнными на крепкой кожаной основе металлическими пластинами типа рыбьей чешуи. Пехота (пешцы) была вооружена копьями, луками, мечами и щитами, булавами, шестопёрами и кистенями, а также боевыми топорами. Но только к концу рассматриваемого периода пехота – и то только в Галицко-Волынском княжестве – могла наносить поражение коннице. На западе первые поражения рыцарской коннице наносят пешие воины – ремесленники и крестьяне – только к концу XIII в. Как и на западе, главной боевой силой была в это время конница, причём на Руси-Украине сабля почти вытеснила мечи.
Постепенно в войсках появлялись и осадные орудия – камнемёты, самострелы, но осада города и бои на его территории редко входили в боевые действия. Предпочтительным был конный бой на поле перед городскими стенами с участием пехоты – бой жестокий и скоротечный, от исхода которого зависело, под чью руку переходит город и сёла, которые к нему «тянут». Это был именно бой, то есть вооружённое столкновение, которое в наше время организовывают батальон или полк; о каких-либо операциях, то есть последовательности боёв с заранее запланированными целями, а тем более о стратегии таких последовательных операций не могло быть и речи.
Такая военная структура не могла противостоять монгольской армии, насчитывавшей 100—150 тысяч воинов, жестко дисциплинированной и хорошо управляемой, способной к осуществлению оперативных замыслов. Руководство войсками монголов осуществлялось таким образом, что на решающих направлениях обеспечивался перевес в живой силе в 10—30 раз. Ни система власти, ни система вооружений и комплектования войск не позволяли Руси вести войну такого масштаба, как войны Чингиз-хана и чингизидов. Дружинная система обеспечивала более или менее устойчивое равновесие государственных образований Руси с небольшими силовыми конфликтными отклонениями от мирной нормы. Хотя, может быть, следует отнести к средневековью Руси замечание, сделанное Бенвенистом применительно к древности: «Мир для нас – это нормальное состояние, которое нарушается войной; для древних нормальным было состояние, которое прерывалось миром»89.
81
См.: Толочко Петро. Київська Русь. К., 1996.
82
Кардини Франко. Истоки средневекового рыцарства. М., 1997. С. 106.
83
Там же.
84
См.: Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи. М., 1977. С. 195.
85
Там же. С. 186, 188, 192.
86
См.: Чочиев А. Р. Очерки истории социальной культуры осетин. Цхинвали, 1965.
87
Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в шести томах. Том второй. М., 1952. С. 116.
88
Моление Даниила Заточника // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 395.
89
Бенвенист Эмиль. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1970. С. 240.