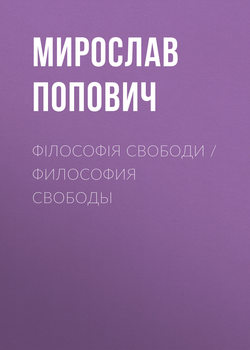Читать книгу Філософія свободи / Философия свободы - Мирослав Попович - Страница 18
Частина 1
Семіотика Києва
Часть 1
Семиотика Киева
Древний Киев – столица Руси
Вече
ОглавлениеНаряду с «низом» в полном смысле слова, противостоящим церковно-княжеской Горе, существовало вече как репрезентант «низа», как способ говорить всем. Аналогичные локусы в городском пространстве имели место в западных городах: Burding в германских городах, parlamento в итальянских. Все эти собрания, в том числе вече, были предшественниками парламентов. Вече – медиатор-посредник между княжеской властью как всеобщей волей города и земли и городом как совокупностью людей, как волей всех.
Вернёмся к «Молению Даниила Заточника», характеризующему роль князя в его «думе» с дружиною почти как пассивного исполнителя её суждений, имеющих столь императивную силу, как и дуновение ветра на движение парусника. Между тем дружина – и не только «младшая», подчинённая господству князя как его челядь, но и старшая, боярская – вряд ли реально влияла на большинство княжеских решений. По крайней мере, такие важные решения, как принятие совещанием князя и дружины кодекса законов «Пространной правды», подготовленного Мономахом вместе с его советниками, наверняка не было похоже на парламентские чтения. Создаётся впечатление, что летописцы сознательно уподобляли процесс «сдумывания» некоему образцу, принимаемому в качестве нормы.
Таким образцом, возможно, была церковная служба. Священник во время службы играет странную, с нашей современной точки зрения, роль: представляется, что активным элементом службы является диакон. Поначалу диакон заведовал хозяйственной и организационной деятельностью храма, но позже стал в процессе службы инициатором и исполнителем сакральных действий. Он подсказывает иерею, что тому надлежит сделать, и затем выполняет все указания священника. Однако на деле решающей является роль священника: он как бы преобразует информацию о положении дел в команду, придает сообщению характер волевого акта, исполнителем которого выступает всё тот же диакон. Это разделение христианского обрядового действа на «информационную» и «волевую» части имеет древние корни. Как показал Бенвенист, анализируя идеологию гомеровского общества, «божество, собственно, не «исполняет» желание; само оно ничего не осуществляет. Оно должно принять пожелание, и уже сама эта божественная санкция позволяет желанию воплотиться в жизнь»90. Впоследствии представления о божественности волевого решения переносятся на людей – участников священнодействия.
Нечто подобное мы можем увидеть в «думаньи» князя с дружиной. Но он всё же – равнее других равных, пользуясь выражением Оруэлла. Его функция – дать санкцию и тем самым преобразовать общую мысль в команду.
Князь, как первый среди равных членов дружины, не командует ею, а думает вместе с нею.
Но если «дума» князя и дружины имеет прежде всего ритуальный характер, то в отношениях князя с городским вечем обе стороны достаточно независимы и активны. Город через общее собрание (вече) выдвигает князю какие-то требования и добивается (или не добивается) их выполнения. Результатом конфликта могло быть даже и устранение князя и замена его другим. Все городские восстания начинаются как конфликты князя с городом в лице общего собрания городских мужей – веча.
Слово «вече» происходит от глагола вещать, родственного ведать = ‘знать’. Это – мистическое, пророческое ведание (ср. польское wieszcz – ‘пророк, мудрец’). Многие историки склоняются к тому, что существовала некая упорядоченная процедура ведения веча (М. Н. Тихомиров предполагал даже, что писались вечевые протоколы). Но никаких следов порядка ведения веча, даже ясного представления о составе его участников и о круге вопросов, подлежавших его рассмотрению, нет. Вполне законно предположение, что вече собиралось и проходило нерегулярно и стихийно, по мере возникновения возбуждающих народ вопросов. В Пскове участвовать в вече называлось «кричать». Но и говорить первоначально означало именно ‘кричать, орать’ (по-украински галасувати, очень близкое к голосовать)91. Существовало искусство говорить или писать хорошо упорядоченный текст – слово – в проповеди (ср. «Слово о законе и благодати»), в поучениях («Слово о князьях»), в художественной литературе («Слово о полку Игореве») и т. д. Но слово не говорили – его молвили. Отмечалось в литературе, что Русь жила в обстановке сплошных договоров. Нет ничего необычного в том, что договор рождался в говорении – хаосе криков и взаимного психологического давления. Вспомним, наконец, о выборах атаманов в Запорожской Сечи: эти выборы всегда имели эффективный результат, но они могли продолжаться несколько дней и ночей, сторонники разных кандидатов перекрикивали друг друга, иногда и дрались, а кандидатам следовало тихо отсиживаться, ибо в этой пороговой ситуации они были никем. Лишь после достигнутой в результате консенсуса победы атаманы становились полновластными хозяевами судьбы каждого козака.
Упорядоченность и процедурная организованность веча могут быть поставлены под сомнение уже потому, что оно было очень многолюдным. Если в Киеве жило тысяч тридцать—тридцать пять жителей и если даже допустить, что участвовали в вече только главы семей – «мужи» и семейство в среднем состояло из десяти человек, а половина жителей не имела права участвовать в вече, – то получается, как минимум, полторы тысячи участников собрания. Голосование в таком случае было «подачей голоса» в прямом смысле слова, то есть перекрикиванием. Хаос в организации веча преодолевался сужением его состава – в городе наиболее развитой вечевой демократии, Новгороде, в конце концов состав веча ограничивается сеньорией, самыми богатыми и знатными горожанами.
Можно предположить, что именно в этом хаосе и заключалась ритуальная сторона веча. Конечно, вече решало будничные практические вопросы, хотя точного определения его компетенции, по-видимому, не существовало ни в одном городе. Но вече демонстрировало обряд равенства и товарищества княжеской верхушки и городских низов. Конфликт нередко перерастал мирные рамки и вырождался в мятеж и погромы, но такова природа социального хаоса и плата за временную потерю иерархии. Вече – состояние, которое этнология называет лиминальным (от limes – граница, порог); в этом переходном состоянии вся структурная иерархия теряет свою силу и определённость.
Древняя демократия не была правовым институтом – это был ритуал, полный сакрального смысла.
Анализируя аналогичные ритуалы у современных африканцев, Виктор Тернер отмечает: «Налицо как бы две «модели» человеческой взаимосвязанности, накладывающиеся друг на друга и чередующиеся. Первая – модель общества как структурной, дифференцированной и зачастую иерархической системы политико-право-экономических положений с множеством типов оценок, разделяющих людей по признаку «больше» или «меньше». Вторая – различимая лишь в лиминальный период – модель общества как неструктурного или рудиментарно структурного и сравнительно недифференцированного comitatus общины или даже общности различных личностей, подчиняющихся верховной власти ритуальных старейшин»92. Упоминание о лиминальном состоянии связывает описываемую структуру с выборами старейшин или переходом какой-либо группы в новый статус, но в некотором смысле лиминальным является любое общее собрание, решающее судьбу жизненно важных вопросов – ведь в этой ситуации вся социальная верхушка, вся иерархия как бы отступает перед лицом общины-comitatus, то есть сообщества как такового, сообщества равных товарищей. «Дело прежде всего в признании сущностной и родовой связи между людьми, без которой немыслимо никакое общество»93.
Не следует полагать, что всеобщее равенство является иллюзией, а на деле общество разделено иерархическими межгрупповыми границами: иерархическая реальность относится к будничной повседневности, ощущение товарищества и равенства всех в общине-comitatus является скорее сакральным чувством, выраженном в обрядах. Но оно тоже принадлежит к реальности – реальности самосознания и ментальности, определяющей положение индивида в обществе. В этом смысле обрядовое равенство всех перед городской общиной так же определяет статус горожан, как обрядовое товарищество дружинников – их положение в обществе.
Выходя на диалог в вече, народ и знать вступают в сакрализованные отношения. Стихия хаоса как раз и подчеркивает сакрализацию, так как возвращает общество к началам неструктурированного состояния и истокам истории. Начало всегда иррационально. Само существование веча унижает князя, так как заставляет его считаться с низами. Но в этом функция веча и заключается. «Лиминальность подразумевает, что высокое может быть высоким до тех пор, пока существует низкое, и тот, кто высоко, должен испытать, что значит находиться внизу»94.
Следует отметить, что идеология вечевых выборов князя отнюдь не приземляла князя до уровня простого «слуги народа». Тем более не унижала она избирателей, как это может показаться их далёким потомкам. Так, знаменитое «призвание варягов» Новгородским вечем истолковывалось как признание славянами собственной неспособности править страной («земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите и правьте нами»). Но приглашение править является таким же проявлением и символом свободного выбора народа, как и изгнание князя и его дружины. Этим приглашением, возможно, легендарным, легитимировалось правление рода Рюриковичей в Киевской Руси. Ибо «глас народа – глас Божий».
90
Бенвенист Эмиль. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1970. С. 265.
91
Етимологічний словник української мови. Т. 1. К., 1982. С. 542.
92
Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 170.
93
Там же. С. 171.
94
Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 171.