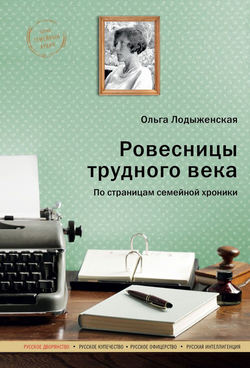Читать книгу Ровесницы трудного века: Страницы семейной хроники - Ольга Лодыженская - Страница 2
Предисловие
ОглавлениеОдним из неожиданных последствий информационного бума начала XXI века оказался небывалый прежде интерес к мемуарной литературе. Особым образом это касается России как страны, находящейся в крайне непростых отношениях с собственным прошлым. Воспоминания Лилианы Лунгиной («Подстрочник»), Натальи Трауберг («Сама жизнь») или Марины Шторх («Дочь философа Шпета») оказываются культурными событиями первого ряда, псевдоавтобиография Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» получает Букеровскую премию, а автор книг-интервью со свидетелями наиболее болезненных эпизодов советской и постсоветской истории Светлана Алексиевич – Нобелевскую. Несмотря на остро переживаемый книжной индустрией кризис, издательства запускают серии воспоминаний. Очередной пример – новая автобиографическая серия издательства «Никея», в которой уже вышли «Записки уцелевшего» Сергея Голицына, а одновременно с «Ровесницами трудного века» увидят свет воспоминания Сергея Десницкого.
Все это вполне закономерно. В переизбытке литературы на любую тему особенно ценным и оказывается человеческий голос, сам «тембр» которого говорит о времени и человеке больше, чем тома изложений и исследований. Неслучайно расцвет исследований так называемой исторической памяти, то есть не фактов истории, а того, как эти факты откладываются в человеческом сознании, пришелся на 1990-е годы XX века, когда распад империи лишил ее жителей готовых «официальных» форм памяти о прошлом, оставив их наедине с памятью частной, полной боли, страхов и обид, но также радостей и надежд.
Ольга Сергеевна Лодыженская (1899–1984), или Леля, как называли ее домашние – дочь можайского судебного следователя и выпускницы московского института благородных девиц. Отец умер от туберкулеза, когда Леле было три года, а ее сестре Таше, второму главному действующему лицу воспоминаний, не исполнилось и года, и мать с двумя дочерьми оказалась предоставлена сама себе и милости родственников. Семья отца – богатые пензенские помещики Лодыженские, зимой жившие большим домом в Москве, семья матери – обедневшие дворяне Дурново (брат Лелиного деда – выдающийся лингвист Николай Дурново, арестованный по «делу славистов» и расстрелянный в 1937 году). Незадолго до революции, после нескольких лет жизни на съемных квартирах они унаследовали маленькое имение прадеда под Можайском. Впрочем, вдруг обретенное благополучие «липовых помещиков», как называют себя сестры, было довольно относительным: дохода с имения они почти не получают и даже покупка лошади оказывается Лодыженским не по карману. Сестры идут по стопам матери, поступая в Московский институт благородных девиц у Красных ворот, – сейчас на его месте конструктивистское здание Министерства путей сообщения. Первая мировая гремит где-то на периферии детской памяти, не слишком нарушая привычное течение жизни, и концом ее оказывается Октябрьская революция, после которой институт распускают, а имение приходится покинуть, ведь жить в собственном доне – значит подчеркивать свое происхождение и рисковать жизнью. Отъезд из дома открывает череду скитаний – жизнь в съемных комнатах, у чужих людей или «самоуплотненных» знакомых, неустроенность гражданской войны, поиски работы, попытки пересидеть голод на Украине в начале 1920-х, снова Можайск и безработица, – которые заканчиваются подобием устроенности в Москве в конце 1920-х, когда сестры выходят замуж и жизнь входит в более-менее надежное русло. Героини воспоминаний оказываются «ровесницами трудного века» не только по возрасту; их частная история очень точно, почти аллегорически, повторяет все то, что переживает страна в его первые десятилетия.
Воспоминания Ольги Лодыженской были записаны поздно, в начале 1970-х. Изначально они задумывались как дань памяти умершей в 1969 году Таше, но в процессе написания переросли в полномасштабный рассказ о жизни семьи. Этот рассказ оканчивается сравнительно благополучным для Лодыженских 1927 годом. Ксения Александровна Разумова (Ася), дочь Таши и племянница Лели, завершает их красноречивой припиской: «Мы спрашивали Ольгу Сергеевну, почему она не стала писать дальше, ведь жизнь была еще очень сложная. Она отвечала: „Дальше было так плохо, что не хочется вспоминать“». В 1937 году мать Лели и Таши все-таки оказалась в лагере как «крупная землевладелица», где вскоре умерла, а в 1941 умер муж Лели: его сердце не выдержало вызовов на Лубянку.
Именно Ксении Александровне воспоминания Ольги Лодыженской во многом обязаны своей публикацией. Маленькая Ася, названная в книге «человеком незаурядным», стала выдающимся физиком-ядерщиком, дважды лауреатом Государственной премии. Увидев в воспоминаниях тети ценность, выходящую за пределы семейной памяти, она сначала перепечатала их на машинке, а потом организовала издание крошечным тиражом для семьи и друзей. Под этой обложкой воспоминания приводятся в значительно сокращенном виде – в рукописи много вставных эпизодов и косвенных линий, не всегда представляющих интерес для стороннего читателя.
* * *
Первое, чем эти воспоминания обращают на себя внимание, – их литературный характер, обилие живых сцен и прямой речи. Конечно, спустя 60 лет воспроизвести в деталях гимназические диалоги или разговоры пассажиров едущего на юг эшелона невозможно. Это беллетризованные воспоминания: на склоне лет Ольга Сергеевна словно бы проживает заново свою юность и молодость, отчасти «разыгрывая» события прошлого, как это делают авторы исторических романов. Но тем показательнее особенности работы человеческой памяти. Обладая замечательным литературным слухом, автор облекает личные воспоминания, личный голос в формы, характерные для такого рода литературы. Воспоминания о гимназии сразу напомнят читавшим рассказы Лидии Чарской, невероятно популярной в начале века; Ольга Сергеевна рассказывает, как младшие девочки «играют в Чарскую», а старшие читают ее книги под партой на уроках. Описывая романтические эпизоды прошлого, а Леля пользуется успехом у мужчин, она прибегает к художественному языку близких ей авторов – на этих страницах можно расслышать отзвуки прозы Всеволода Гаршина, Николая Гарина-Михайловского, Дмитрия Григоровича, Александра Куприна. В стихах, довольно многочисленных в рукописи, но по большей части не вошедших в настоящее издание, хорошо различимо влияние Семена Надсона, властителя умов гимназисток дореволюционной поры.
Но преломление личных воспоминаний в языке этих авторов – лишь один из крайне интересных механизмов памяти, задействованных в воспоминаниях Лодыженской. Ведь содержательно здесь мы тоже отчасти имеем дело с известным преломлением действительности. Одно из самых сильных впечатлений от воспоминаний Ольги Лодыженской – ровность и легкость голоса, которым она описывает распадающийся на глазах мир. Налаженный быт в собственном, хоть и совсем небогатом имении – с няней, лошадьми и домашними котлетами – уходит в небытие стремительно и бесследно. Эфемерность любого «устройства» подчеркивается тем, с какой готовностью и даже задором эти недавние институтки берутся за любой труд, от шитья транспарантов до секретарства в больничной канцелярии, бросают насиженное место, с трудом найденную работу и драгоценные человеческие связи, чтобы отправиться в украинские степи навстречу неизвестности, полтора месяца трястись в тесно набитых поездах, несколько раз переболеть тифом, пережить набег махновцев, снова голод и два года спустя с такой же легкостью кинуться назад, в Можайск. Мир распался, нет и следа былого благополучия, а эти барышни, привыкшие к лепешкам из плохой муки и годами лишенные возможности «залезть в ванну», случайно встретившись на вокзале под Харьковом, сидя на узлах, читают на память Брюсова и Надсона.
Как ни удивительно, нигде на страницах этих воспоминаний не слышно горечи об ушедшем стройном и благополучном мире, ни слова о том, что нянины домашние котлеты лучше, чем оладьи из картофельных очисток, приготовленные на коммунальной кухне. Терпимость к творящемуся вокруг ужасу, распаду мира и связей, не случайна именно потому, что перед нами не дневники, а запись воспоминаний, корректировавшихся на протяжении десятилетий. Тем важнее вглядеться и постараться понять, что же за ней стоит и как она устроена.
У этой терпимости, или у принятия действительности, как минимум несколько причин. Леля с искренним воодушевлением принимает советскую власть. И дело не столько в романтическом восприятии революции, сколько в распространенных среди дворянской молодежи того времени левых настроениях и мечтах о социальной справедливости. Вместе с Лялей Скрябиной, дочерью композитора, Ольга Сергеевна мечтает после института организовать «музыкальные школы для народа». И когда в 1917-м студент-патрульный с винтовкой в руках и красной повязкой на рукаве обращается к ней «товарищ», ее сердце, как признается она, наполняется теплом. Можно ли видеть здесь результат десятилетиями формировавшихся под давлением советской действительности представлений о преимуществах нового строя? Или дело в атмосфере страха и чувстве незащищенности, закрепившимися у всех, переживших 1930-е и 1940-е годы прошлого века в СССР? Наверное, отчасти и то и другое. Но только отчасти – заметим, что о НЭПе Леля вспоминает безусловно сочувственно, хотя он и был заклеймен впоследствии. Куда важнее другое, явно висящее в воздухе в 1910-х годах ощущение надвигающейся бури, причем бури благотворной и очистительной, а потому, в общем, желанной. Вот как Таша описывает прощание с имением:
Мы ждали ветра, я и ты.
Он налетел, такой суровый,
И в дымке призрачной мечты
Навеки скрылось Отяково.
Это ожидание ветра – не блоковское упоение музыкой революции, но ощущавшийся всеми современниками слом, тектонический сдвиг эпох – свидетельств тому много в лучших произведениях искусства этого времени: от «Черного квадрата» Малевича до «Белой гвардии» Булгакова и «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама. Неудивительно, что происходящее не воспринимается как результат злой воли человека – большевиков, Ленина, красных или белых. В книге вообще, на удивление, нет ни красных, ни белых, и даже махновцы, захватывающие украинский Старобельск как раз тогда, когда там живут Лодыженские, описаны в первую очередь с бытовой стороны. Из военных или лагерных воспоминаний, на которые так богат XX век, мы знаем, что экстремальные лишения человек воспринимает без горечи, как стихийное бедствие: когда кругом смерть и разруха, им перестаешь ужасаться, а смысл жизни сводится к тому, чтобы прожить еще один день.
У ровной и светлой тональности, с которой Лодыженская описывает полное лишений время, есть еще одна, быть может, самая психологически убедительная и оттого особенно важная причина. Пожилой человек описывает время своей юности и молодости, которое всегда остается в памяти как светлое и беззаботное время – какие бы невзгоды не выпадали на его долю в действительности. Автор хорошо знает об изнанке этой действительности («дальше было так плохо…»), но вспоминать предпочитает иное. И это тоже важная правда о памяти: самые страшные страницы часто стираются из нее или заменяются мифами не потому, что кто-то намеренно стремится спрятать и исказить страшную правду, а просто потому, что человечек естественным образом отторгает и вытесняет такие воспоминания. Это вовсе не значит, что следует идти на поводу у такой защитной памяти. Но знать об этом механизме и учитывать его эффект совершенно необходимо.
Мы знаем много воспоминаний тех, кто ценил и помнил былой ушедший мир и оплакивал его, и диапазон переживаний тут очень широк – от трезвого отчаяния Ивана Бунина до сентиментальных идеализаций Ивана Шмелева. Большинство из них покинули Россию, унеся с собой на чужбину ее образ, другие ушли во внутреннюю эмиграцию. Примеры такой памяти представляют другие книги серии «Семейный архив». Но тех, кто так или иначе принял происходящее, куда больше, и мы, читающие эти воспоминания, скорее всего, именно их потомки. Их голос особенно важен для нас, потому что с большой вероятностью описывает восприятие, разделявшееся нашими предками. Понять их – значит отчасти понять самих себя.
* * *
Груз «трудного прошлого» не просто требует переосмысления – без него это прошлое грозит оставаться настоящим, протаскивая в настоящее свои реликты и рефлексы. Историки и социологи правы, когда говорят, что российское общество разделено и останется разделенным, если не сумеет выработать формулы национального примирения, договорившись о прошлом. Но для того, чтобы такой договор оказался возможным, необходима работа с памятью, важная часть которой состоит как раз в том, чтобы дать зазвучать разным голосам тех, кто жил тогда и видел все своими глазами. Ведь упрощенное или схематическое представление об этом прошлом не менее опасно, чем отказ извлекать из него уроки. Парадные картины жизни молодой родины победившего пролетариата – такая же схема и неправда, как картины беспросветного мрака диктатуры и сплошной мясорубки войн, голода и репрессий. Было и то и другое, и лучший способ избежать механических оценок – почувствовать атмосферу того времени, описанную трезво, но сочувственно, без идеализаций, но и без отторжения, читая о том, как люди просто жили, мучались и радовались, ссорились и влюблялись, голодали и читали стихи. Такое чтение – лучшее свидетельство того, что реальная, «живая жизнь» намного сложнее схем и идеологических конструкций.
В каком-то смысле сочувственный взгляд даже важнее критического. Ведь благодарное принятие того в прошлом, что достойно благодарности, такая же важная часть его осмысления, как осуждение и покаяние за то, что достойно осуждения и покаяния. Духовная работа благодарения за добро – не менее необходимое условие осуществления связи с прошлым, заявления и признания прав на него, чем усилие принятия ответственности за совершенные в прошлом злодеяния.
Воспоминания Ольги Лодыженской, буквально дышащие жизнью, насыщенные языком и деталями времени, – бесценное подспорье, чтобы почувствовать прошлое и выстроить с ним личные, а не абстрактные отношения.