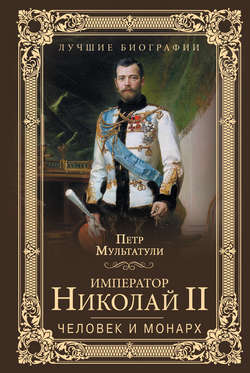Читать книгу Император Николай II. Человек и монарх - Петр Мультатули - Страница 6
Часть I
Наследник русского престола
Глава 3. Образование Цесаревича Николая Александровича
ОглавлениеПрограмма и организация образования
Образование Наследника Цесаревича Николая Александровича было рассчитано на 13 лет. Первые 8 лет – гимназическая программа, следующие пять – по программе Генерального штаба{169}. Руководителем образования Наследника и его воспитателем был назначен военный педагог генерал от инфантерии Григорий Григорьевич Данилович. Густав Лансон, видный французский литературовед, который преподавал детям Александра III французский язык, писал о нем: «Генерал Данилович, воспитатель царственных детей, обладал не только военными познаниями, но был вообще высоко и разносторонне образованным человеком»{170}. Между генералом и его воспитанником установились тёплые неформальные отношения. В своих многочисленных письмах генерал неизменно обращался к Цесаревичу без титула – «дорогой Николай Александрович», а подписывался: «искренно любящий Вас, генерал Данилович».
Г. Г. Данилович разработал целую программу воспитания Великого Князя, которую представил на благоусмотрение его родителей. По воле Александра III большое внимание было уделено практическим дисциплинам. Специальная программа включала в себя восьмилетний общеобразовательный курс и пятилетний курс высших наук. Общеобразовательный курс был составлен по программе учебных занятий для классических гимназий с некоторыми изменениями: вместо преподавания древних языков (латинского и древнегреческого) было введено преподавание минералогии, ботаники, зоологии, анатомии и физиологии. Изучение русской истории, русской литературы и иностранных языков было значительно расширено{171}.
Регулярные занятия у Великого Князя Николая Александровича начались в восьмилетнем возрасте. В десятилетнем возрасте Наследник уже еженедельно имел 24 урока, а в 15 лет – 30 уроков. Весь день Цесаревича был расписан по минутам. Даже летом этот распорядок практически не менялся. На начальном этапе образования Александр III иногда присутствовал на уроках сына. Он писал супруге, что гувернёр «очарован Ники, его прекрасной натурой и добрым характером, что он весьма и весьма развит. Можешь поверить, мне было весьма приятно слышать это, и теперь я возлагаю большие надежды на то, что все, даст Бог, будет хорошо. Я присутствовал на первых уроках Ники с учителями – по русскому языку, по арифметике, по чистописанию и по рисованию. Как видишь, мальчик начал серьёзно заниматься, и говорю с печалью в сердце, что самое прекрасное время осталось в прошлом; сам он весьма доволен и, к моей радости, любит учиться и учится с огромным желанием»{172}.
По определению И. Зимина, будущему Государю «давали широкое образование управленца высшего звена. Поэтому в сетке учебных часов мы видим политэкономию и законоведение»{173}. Среди преподавателей Наследника были лучшие специалисты России. Законоведение преподавал крупнейший правовед, профессор Московского университета К. П. Победоносцев, международное право – профессор Санкт-Петербургского университета М. Н. Капустин, политическую экономию и финансы – выдающийся профессор-экономист Н. Х. Бунге, европейские международные отношения – выдающийся дипломат, министр иностранных дел Н. К. Гирс, курс общей химии – знаменитый академик Н. Н. Бекетов, Закон Божий – известный русский богослов, писатель, проповедник и церковно-общественный деятель, доктор богословия протоиерей И. Л. Янышев. Помимо этого, Наследнику преподавалось рисование, преподаватель – известный художник К. В. Лемох, и танец, преподаватель – известный танцор Мариинского театра Т. А. Стуколкин. По поводу назначения Лемоха художник Я. Д. Минченков писал: «Когда ко Двору понадобился учитель, то в силу своего немецкого происхождения, своей аккуратности и деликатности, и направления в искусстве он, как никто из художников, ближе подошел к этой роли. При Дворе его переименовали из Карла в Кирилла и приставили учить детей Царя Александра III. Лемох застал ещё Александра II, который приходил на уроки внука Николая, будущего Царя Николая II и удостаивал учителя своими разговорами»{174}.
По хранящемуся в ГА РФ «Расписанию занятий Государя Наследника Цесаревича» за 18 марта 1883 г. можно сделать вывод о характере преподаваемых предметов и занятости Цесаревича во время учебного дня{175}.
Как видим, образование Наследника было всесторонним, и учебный день продолжался до вечера. Заметим, что это расписание относится к тому времени, когда Николаю Александровичу было 15 лет. В последующие годы образование Наследника престола приобрело серьёзный научный характер. К пятнадцати годам он имел более 30 уроков в неделю, не считая ежедневных часов самоподготовки. Николай Александрович отличался усидчивостью и врожденной аккуратностью. Он всегда внимательно слушал и был очень исполнителен. Г. Лансон так описывал своего Августейшего ученика: «Наследник роста скорее небольшого, коренастый, широкоплечий, произвёл впечатление серьёзной солидности. Овал лица скорее круглый, немного вздёрнутый нос и прекрасные голубые глаза, ясный и открытый взгляд которых так хорошо и прямо смотрит в душу»{176}.
В воспоминаниях Г. Лансона мы находим описание учебного дня царских детей: «Таблица с расписанием очень тщательно составленным, указывает час за часом распределение времени занятий в течение всего дня. Несколько послеобеденных часов уделены на прогулку во дворце, или на воздухе. Остальное время занятий занято почти всё уроками: русский, французский, немецкий и английские языки, история, математика. География, физика, химия, естественная история, закон Божий и прочее чередуется один за другим. Наследнику Цесаревичу кроме того преподаётся топография и военные науки. Вечера и послеобеденное время заполнено рисованием, музыкой, гимнастикой»{177}.
Русский и иностранные языки
Особое внимание уделялось русскому языку. Генерал Данилович 17 августа 1877 г. писал будущему Александру III: «Отечественный язык – орудие всей умственной жизни человека на всех ступенях его развития, это не только средство образа мыслей между людьми, но в большей части случаев, и средство первого знакомства с внешним миром и его явления. Мы узнаём его чаще не путём непосредственного наблюдения, а путём чтения или словесного объяснения. Пока учащийся не владеет отечественным языком довольно свободно круг его познаний останется ограниченным, а процесс мышления осуществляется медленно, вяло»{178}.
Император Николай II был большим и тонким ценителем родного языка, не терпел в нём иностранных заимствований, считая, что каждому из них можно найти русский эквивалент. Государь говорил А. А. Мосолову: «Русский язык так богат, что позволяет во всех случаях заменить иностранные выражения русскими. Ни одно слово неславянского происхождения не должно было бы уродовать нашего языка. Я подчёркиваю красным карандашом все иностранные слова в докладах. Только министерство иностранных дел совершенно не поддается воздействию и продолжает быть неисправимым»{179}.
Что касается иностранных языков, то как свидетельствовал Лансон: «Наследник Цесаревич говорит на английском как на своём родном языке, также прекрасно владеет французским языком. ‹…› Относительно немецкого языка я не могу высказать своё отдельное мнение, так как сам не говорю на этом языке, но мне кажется, что и его Великий Князь Николай Александрович знает также хорошо»{180}.
Приоритет давался живым языкам, «мёртвые» же не изучались вовсе. Английский язык преподавал англичанин Чарльз Хис, большой любитель спорта, сильный боксёр. Его воспитанники, Великие Князья Николай и Георгий, любили англичанина и по-доброму шутили по поводу его смешного английского акцента, от которого он не мог до конца избавиться. Однако преподавателем Хис был отличным, и Николай II с детства владел английским в совершенстве{181}. По свидетельству Великого Князя Александра Михайловича: «Накануне окончания образования, перед выходом в Лейб-гусарский полк, будущий Император Николай II мог ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, который принял бы его, по знанию английского языка, за настоящего англичанина. Точно так же знал Николай Александрович французский и немецкий языки»{182}.
Преподавателем французского языка сначала был Дюперре, а после того, как он по состоянию здоровья вернулся во Францию, преподавателем был назначен Лансон{183}. Французский преподавался Наследнику три раза в неделю. Лансон широко знакомил Ученика с произведениями Ламартина и В. Гюго, множество стихов которых Цесаревич знал наизусть. Лансон был поражён простотой и естественностью сыновей Александра III: «Послушание, кротость и дисциплинированная выдержанность Августейших детей меня просто поражает. Я никогда ещё не видел учеников, которые так облегчали бы работу своим наставникам. Никогда не вызывали они ни одного замечания, никогда не потребовалось малейшего принуждения, или напоминания об их обязанностях, никогда ни тени упрямства или противоречия вообще. Одинаково исправно и точно, всегда оживлённые, весёлые и приветливые охотно являются они на занятия, и на прогулки. Образ жизни великих князей крайне прост. Спят они оба в одной комнате на небольших простых железных кроватях без сенника или волосяного тюфяка снизу, а только на одном матраце. Такая же простота и умеренность наблюдается и в пище. В них много ещё детского, юношеского, они очень просты сердцем так же и в привычках своих; нет ни тени пресыщенности, избалованности»{184}.
История
С детских лет Николай II глубоко и всесторонне знал русскую историю и литературу. Генерал Данилович писал Цесаревичу в 1879 г.: «Прошу Николай Александрович посвящать ежедневно, во время путешествия в Данию, час времени на чтение летописца Нестора и составление извлечения»{185}. Конспекты Наследника Цесаревича по истории представляют собой множество толстых, полностью исписанных тетрадей. Великая Княгиня Ольга Александровна вспоминала: «Русская история представлялась как бы частью нашей жизни, чем-то родным и близким, и мы погружались в неё без малейших усилий»{186}. Курс истории Наследнику читал профессор Императорского Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент Петербургской академии наук Е. Е. Замысловский. Впоследствии Государь Николай II удивлял всех глубоким знанием русской истории{187}. В 20 лет он глубоко интересовался творчеством историка и писателя Г. П. Данилевского, автора многих исторических романов. 24 января Цесаревич Николай отметил в дневнике, что принимал Данилевского, «который к большому моему удовольствию поднёс мне три тома своих интересных сочинений»{188}.
В 1866 г. по инициативе Цесаревича Александра Александровича было создано Русское историческое общество, которое возглавил он сам. Граф С. Д. Шереметев писал, что, по мысли Александра III, «печатание исторических документов должно было идти параллельно с живым обменом мыслей членов общества, собираемых вокруг своего Почетного председателя»{189}.
Став Царём, Александр III продолжал оставаться Почётным председателем Общества, которое в связи с этим получило именование «Императорское». Александр III всегда брал с собой на заседания своего сына Николая. Секретарь Общества А. А. Половцов вспоминал о заседании 18 февраля 1885 г.: «Всего с Императором, Цесаревичем и Великим Князем Владимиром Александровичем присутствуют 26 лиц. Государь, посадив возле себя Великого Князя Владимира Александровича, приказывает Цесаревичу сесть между мной и Штендманом[19]. Я открываю заседание чтением своего отчёта. Потом А. Ф. Бычков[20] читает отрывки из неизданных и частью известных писем Петра Великого. ‹…› Грот[21] читает весьма скучную статью о переговорах во время шведской войны 1788 г. Дубровин[22] прочитывает премилое сообщение об исторических трудах Императрицы Екатерины и попытки ей при участии графа А. Шувалова создать под своим председательством Историческое общество. Мартенс[23] душит нас рассказом ‹…› об отношениях России с Пруссией во время Отечественной войны. ‹…› После каждого чтения Государь очень любезно говорит несколько слов читателю, Цесаревич восхищается совершенно новым для него препровождением времени и сообщает мне, что уже четыре года ведёт дневник, куда внесёт и всё слышанное сегодня»{190}.
Литература
Цесаревич любил Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Чехова и Достоевского. Но любимым его писателем был Гоголь. 1 марта 1884 г. в дневнике Цесаревича можем читать: «Я всё время читал вслух “Ревизор”»{191}. Данилович писал Наследнику: «Очень радуюсь тому, что Вы по-прежнему любите Гоголя и охотно его читаете. Это, бесспорно, один из лучших сатириков нашей литературы»{192}. Сам большой знаток русской литературы, генерал старался не просто ознакомить своего Воспитанника с её вершинами, но показать благотворное нравственное значение её на душу человека. Говоря о сатире Гоголя, Данилович подчёркивал, что его «всегда поражало при чтении Гоголя и то тёплое чувство, которое сопровождает его насмешку во всех тех случаях, когда он выводит на сцену не пороки, а смешные, но простительные ошибки и заблуждения людей. Этот оттенок горячего участия к людям составляет вообще великое достоинство сатирического писателя, потому, что насмешка безучастная и холодная только отталкивает и оскорбляет людей»{193}.
В другом письме Г. Г. Данилович излагал Николаю Александровичу свои мысли о значении для русской словесности Ивана Сергеевича Тургенева: «Все опечалены смертью Тургенева. Много сделал этот замечательный писатель для русских того поколения, к которому принадлежу я. В лучшую свою пору, в пятидесятых и шестидесятых годах, он действительно представлял собою талантливого и умного писателя, глубоко понимавшего жизнь современного русского общества, с его мечтаниями, заблуждениями и горестями. Вас пока поражала другая сторона таланта Тургенева – его умение описывать происшествия живо, занимательно и бойким языком. В этом отношении Тургенев был, я думаю, выше всех русских писателей, за исключением разве одного Гоголя»{194}.
Русскую литературу Николай II любил и читал всю жизнь. За время Тобольской ссылки Государь познакомился с произведениями М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Апухтина, П. И. Мельникова-Печерского, произведениями Д. С. Мережковского, В. С. Соловьева. В Тобольске он особенно оценил и полюбил Н. С. Лескова.
Экономика и финансы
Образование Наследника по этим дисциплинам проходило с осени 1886 г. под руководством бывшего министра финансов Н. Х. Бунге, который основательно переработал и дополнил предполагаемый курс лекций, разделив их на три части, каждая для одного семестра: 1) история политической экономии (1886–1887); 2) экономическая политика (1887–1888); 3) чтения о финансах (1888–1889). По поручению Н. Х. Бунге вице-директор Департамента окладных сборов В. И. Ковалевский составил для занятий краткие очерки, карты, графики и таблицы, отражающие состояние сельского хозяйства и положение крестьянства{195}. Между Цесаревичем и Н. Х. Бунге установились особые тёплые и доверительные отношения. Бунге говорил Государственному секретарю А. А. Половцову, что Цесаревич «положительно очень умен и в высшей степени сдержан в проявлении своих мыслей»{196}.
Уровень общего образования Николая II
Государственный секретарь А. А. Половцов в своём дневнике приводил свой разговор с К. П. Победоносцевым, касающийся образования Наследника. Знакомясь со строками Половцова, следует учесть, что этот чрезвычайно честолюбивый человек, член нескольких масонских лож, был крайне самовлюблённым, отчего его отношение к другим людям отличалось высокомерной снисходительностью. Тем не менее Половцов писал: «Говоря о Цесаревиче, Наследнике престола, Победоносцев сообщает, что, хотя Данилович по старости лет, слабости здоровья и вообще некоторой мертвенности нравственного существа и не представляется идеальным воспитателем, тем не менее, его план обучения и строгость исполнения этого плана ставят ход образования Наследника удовлетворительнее, чем других юношей царствующего семейства. Ввиду однообразности и замкнутости жизни государевых сыновей, необходимо было бы доставить Наследнику возможность видеть более людей. На днях Победоносцев говорил об этом с Государем. ‹…› На всё это, Государь отвечал, что “его сыновья видают тех людей, коих у него бывают”, но, к сожалению, у него бывают люди одной узкой клики»{197}. В другом месте Половцов сообщает, что Победоносцев, «говоря о занятиях своих с Цесаревичем, хвалит способности молодого человека и сетует на то, что его держат на положении ребёнка, а в особенности на то, что ему не позволяют путешествовать»{198}.
Половцов также утверждал, что преподаватель Наследника по тактике генерал Гудим-Левкович жаловался ему на «Даниловича, который из своего Питомца делает умеренного, аккуратного старичка, а не бойкого юношу»{199}. Как показало будущее, именно те качества, которые заложил в Государя генерал Данилович, позволили Царю в течение долгих лет царствования сохранять спокойствие и хладнокровие в сочетании со спокойным анализом ситуации. Вряд ли бы в критических ситуациях Николаю II помогли бы качества «бойкого юноши».
Протопресвитер Георгий Шавельский, который не любил Государя, тем не менее признавал: «Когда вопросы касались истории, археологии и литературы, Государь обнаруживал очень солидные познания в этих областях. Нельзя было назвать его профаном и в религиозной области. В истории церковной он был достаточно силен, как и в отношении разных установлений и обрядов Церкви»{200}.
Следует сказать, что образование детей Александра III было очень гармоничным и разнообразным. 11 сентября 1882 г. Цесаревич Николай посетил Третьяковскую галерею, где осматривал её картины{201}, а через месяц, 11 октября, был слушателем «маленькой лекции Миклухо-Маклая. Он рассказывал о своём 12-летнем проживании в Новой Гвинее и показывал свои рисунки»{202}.
При изучении блока естественных наук Цесаревичу преподавалась анатомия человека, поэтому в его учебной комнате в Гатчинском дворце появился в качестве учебного пособия человеческий скелет. Об этом стало немедленно известно в свете, и эта новость вызывала раздражение у прежних царских воспитателей. Бывший преподаватель Александра III генерал Н. В. Зиновьев буквально выходил из себя, когда речь заходила о воспитательских новациях Даниловича: «Что он его [Наследника] готовит в повивальные бабки, что ли?»{203}
Общее образование Наследника закончилось в 1890 г. В мае в его дневнике появилась запись: «Сегодня окончательно и навсегда прекратил свои занятия». Нельзя не согласиться с выводом И. Зимина о том, что Государь «получил добротное и достаточно гармоничное образование, включавшее в себя не только основы юридического, экономического и гуманитарного образования, но и основательное знание военного дела. Он был образованным и эрудированным человеком, о чем единодушно пишут мемуаристы, хорошо знавшие его “по работе”»{204}.
Поэтому уничижительные высказывания недоброжелателей Николая II по поводу его образования следует отнести к их предвзятости и недобросовестности. Так, А. П. Извольский в своих воспоминаниях писал: «Когда Император Николай II взошел на престол… его природный ум был ограничен отсутствием достаточного образования. До сих пор я не могу понять, как Наследник, предназначенный самой судьбой для управления одной из величайших империй мира, мог оказаться до такой степени неподготовленным к выполнению обязанностей величайшей трудности»{205}.
И. Л. Солоневич дал наиболее точное определение уровню и значению образования Императора Николая II: «Государю Императору преподавали лучшие русские научные силы – и историю, и право, и стратегию, и экономику. За Ним стояла традиция веков и практика десятилетий. Государь Император стоял на самой верхушке уровня современности»{206}.
Военное образование
Любовь к военному делу, как у большинства членов Дома Романовых, была у Императора Николая II, что говорится, «в крови». В детстве, как и у его пращура Петра Великого, у будущего Государя уже были свои «потешные» солдаты, с которыми он участвовал в «учениях и боях» в саду Аничкова сада{207}.
Император Николай II получил хорошее военное образование, которым руководили такие известные военные теоретики, как генерал от инфантерии М. И. Драгомиров (по боевой подготовке войск), Генерального штаба генерал от инфантерии Г. А. Леер (по стратегии и военной истории), генерал от артиллерии Н. А. Демьяненков (по артиллерии), П. Л. Лобко (по военной администрации), Генерального штаба генерал от инфантерии Н. Н. Обручев (военная статистика), Генерального штаба генерал от инфантерии О. Э. Штубендорф (геодезия и топография), Генерального штаба генерал от инфантерии П. К. Гудима-Левкович (тактика), Генерального штаба генерал-майор Ц. А. Кюи (фортификация), генерал-лейтенант А. К. Пузыревский (история военного искусства), вице-адмирал В. Г. Басаргин и генерал-адмирал Н. Н. Ломен (военно-морское дело).
Генерал Обручев впоследствии с «восторгом отзывался об уме и прекрасных душевных качествах своего Ученика и неоднократно рассказывал о способностях Наследника Цесаревича быстро схватывать суть излагаемого предмета и о его феноменальной памяти»{208}.
В ГА РФ в фонде Николая II имеются документы, посвященные военным занятиям Наследника Цесаревича Николая Александровича, позволяющие дать представление о полученном им военном образовании. 1. Вычисления Императора Николая II по морским навигационным приборам с 23 августа 1884 по 3 января 1885 г.{209} 2. Ученические тетради Императора Николая II по фортификации с 10 октября 1885 по 2 февраля 1887 г.{210} 3. Конспект курса артиллерии, написанный для Великого Князя Николая Александровича. 4. Записи Великого Князя Николая Александровича по курсу военной администрации с 21 ноября 1887 по 11 марта 1889 (8 тетрадей). 5. Учебные записи Великого Князя Николая Александровича по военному делу 1887 г. 6. Конспект курса «военно-уголовного права». 7. Учебные пособия по изучению военного дела.
Тем не менее некоторые современники Николая II считали это военное образование недостаточным. Так, генерал от инфантерии Н. А. Епанчин писал, «что касается до военно-научного образования Цесаревича, то в нём были немалые пробелы»{211}. Адмирал А. Д. Бубнов, никогда, впрочем, не руководивший крупными военными соединениями, считал, что уровень военных знаний Николая II «соответствовал образованию гвардейского офицера, что само собой, разумеется, было недостаточно для оперативного руководства всей вооруженной силой на войне»{212}. Николай II не получил академического военного образования, не имел опыта боевых действий. Полученное им военное теоретическое образование вполне соответствовало уровню обер-офицера. Окончание военных манёвров он всегда переживал с горечью и сразу начинал «думать о лагере и о службе в войсках!»{213}.
6 мая 1884 г. Цесаревичу Николаю Александровичу исполнилось 16 лет. По этому поводу Император Александр III издал манифест, извещающий о совершеннолетии Наследника Цесаревича Великого Князя Николая Александровича и о принесении им Присяги{214}. Это событие считалось чрезвычайно важным в жизни русских Престолонаследников. В отличие от всех других подданных они присягали в 16, а не в 21 год. В торжественной обстановке Цесаревичи приносили две присяги: гражданскую и воинскую. Гражданская присяга приносилась в Большой церкви Зимнего дворца. Оттуда шествие направлялось в Георгиевский зал, где Цесаревич у трона, под знаменем Атаманского «своего имени полка» произносил воинскую присягу «на верность службы Государю и Отечеству»{215}.
Николай Александрович об этом событии в дневнике записал следующее: «В десять часов пошли в церковь. В половине первого поехали в Зимний. Я, конечно, был в атаманском мундире. По окончании молебна я прочёл Присягу. Пошли в Георгиевскую залу и тут я прочёл военную присягу. Затем мне были от всех поздравления. ‹…› Я так доволен, что всё прошло благополучно»{216}.
Великий Князь Константин Константинович писал в дневнике: «Нашему Цесаревичу сегодня 16 лет, он достиг совершеннолетия и принес присягу на верность Престолу и Отечеству. Торжество было в высшей степени умилительное и трогательное. Наследник – с виду ещё совсем ребенок и очень невелик ростом. Прочитал он присягу, в особенности первую, в церкви детским, но прочувствованным голосом; заметно было, что он вник в каждое слово и произносил свою клятву осмысленно, растроганно, но совершенно спокойно. Слезы слышались в его детском голосе. Государь, Императрица, многие окружающие, и я в том числе, не могли удержать слёз»{217}.
В августе 1884 г. Наследник получил звание поручика. Летом 1887 г. прослужил субалтерн-офицером (младшим офицером) в роте Его Величества и командовал этой ротой в лагерном сборе следующего, 1883 г. Всего Наследник провёл в должности ротного командира два лагерных сбора в рядах Лейб-гвардии Преображенского полка. В марте 1889 г. будущий Император писал: «Я проделал уже два лагеря в Преображенском полку, страшно сроднился и полюбил службу!»{218}
В учениях Наследник принимал участие как простой офицер. «Выступили в 7 часов, – писал он в своём дневнике в мае 1889 г. – Принимал штандарт с 1 взводом. Дождь шёл с самого начала. На военном поле было учение дивизии с обозначенным противником. Делали две атаки на него»{219}. 17 июля того же года: «Выступили в 8 ½ с отличной погодой. Опять дрались с обозначенным противником»{220}. 1 августа того же года: «Спал отлично в своей палатке, несмотря на дождь. Выступили с бивуака в 8 ч. и при хорошей погоде двигались к гребню Красносельского шоссе. Николаша[24] командовал всем отрядом»{221}. 5 августа того же года: «Полк выступил в 8 ¼ на бивак, где простояли с 10 ч. до 3 ч. Был собственно двухсторонний кавалерийский манёвр. Сильно мокли под дождём. Странствовали лесами и полями, наконец, отыскали противника и атаковали». В январе 1893 – марте 1894 г. состоялись последние учения Николая Александровича в качестве Цесаревича. Для Наследника участие в таких учениях было настоящим праздником. 23 августа 1892 г. Николай Александрович написал Великому Князю Константину Константиновичу следующее письмо: «Дорогой Костя. Спешу разделить с тобой мою искреннюю радость. У меня только что произошёл с Папа́ разговор, содержание которого так давно волновало меня! Мой милый, дорогой Папа́ согласился, как прежде, охотно и разрешил мне начать строевую службу с зимы! Я не в состоянии выразить Тебе испытываемые мною чувства, Ты вполне поймёшь это сам. Как будто с плеч гора свалилась! Итак, я буду командовать 1-м батальоном под Твоим начальством. Целую крепко нового отца-командира. Твой, Ники»{222}.
С января 1893 г. Цесаревич с радостью окунулся в военную службу, учебные бои, переходы, боевое товарищество: «В 9 час. выступил из казарм с 1-м и 4-м батальонами к Александровскому мосту, куда прибыли одновременно и остальные Таврические батальоны. В 10 час. Костя повёл полк к сборному пункту у дачи Кушелева, где имели большой привал до полудня. ‹…› 12 ¼ наш отряд в составе 4 бат., 3-х сотен лейб-казаков и 4 орудий Михаила Павловича батареи под командой Кости двинулась на север. При выходе у д. Гражданка были встречены артиллерийским огнём противника, занявшего позицию у дер. Ручьи и сильно окопавшегося снегом. Развернувшись, быстро начали наступать, угрожая левому флангу неприятеля. Мой батальон шёл в первой линии, за мною следовали быстро 2-й и 3-й бат. Идти было очень скользко, люди падали поминутно. В полчаса мы уже ворвались в укрепления сапёр и взяли два их орудия. В сельской школе был приготовлен завтрак нашею артелью, и удалось накормить весь отряд. Около 4-х двинулись в обратный путь. Ветер дул в лоб и очень мешал передвигать ноги. До черты города шёл пешком во главе батальона, как прошлым летом на подвижном сборе. Ровно в 6 час. пришли на Миллионную, мокрые и грязные, но очень довольные»{223}.
Непосредственный начальник Наследника Великий Князь Константин Константинович записал в своём дневнике в 1894 г.: «Ники держит себя в полку с удивительной ровностью; ни один офицер не может похвастаться, что был приближён к Цесаревичу более другого. Ники со всеми одинаково учтив, любезен и приветлив; сдержанность, которая у него в нраве, выручает его»{224}.
Генерал А. А. Зуров, бывший сослуживец будущего Николая II по Лейб-гвардии Преображенскому полку, вспоминал: «Наследник Цесаревич всегда аккуратно приходил на занятия; Он не числился только, но действительно служил и был образцовым офицером и командиром. Его отношение к своим однополчанам, офицерам и солдатам было всегда дружелюбным и доброжелательным. Он был подлинным отцом-командиром, заботившимся о своих подчинённых, как офицерах, так и солдатах, о солдатах же в особенности, так как он любил их всем своим русским сердцем; Его влекла к ним их бесхитростная простота, что было основной чертой Его собственного характера. Наследник Цесаревич не только интересовался их питанием и условиями их казарменной жизни, но и домашними делами, жизнью и нуждами их семей и помогал их нужде»{225}.
Генерал Н. А. Епанчин, в ту пору офицер Преображенского полка, вспоминал: «Цесаревич проходил военную службу в пехоте, в Преображенском полку, как младший офицер и как батальонный командир; в коннице, в офицерской кавалерийской школе, и в Л.-гв. Гусарском Его Величества полку, и в артиллерии, в Гвардейской Конно-артиллерийской бригаде. Таким образом, он имел возможность изучить строевую полевую службу, познать войсковой быт, мог наблюдать работу офицеров и солдат, сойтись с ними, узнать русского человека, особенно простолюдина, в его работе. Всё это было для него крайне необходимо, особенно для его будущего предназначения как Монарха. Служебные обязанности Цесаревич исполнял чрезвычайно добросовестно, входил во все необходимые подробности. Он близко стоял к офицеру и солдату; в сношениях с людьми отличался необыкновенным тактом, выдержкой и доброжелательством; никого из офицеров не выделял особенно, ни с кем не входил в особые близкие отношения и никого не оттолкнул. По своему характеру он не способен был на вульгарное товарищество, на амикошонство, чему мы иногда были свидетелями в отношениях других высоких лиц.
Житейская обстановка Цесаревича в полку ничем не отличалась от условий жизни остальных офицеров – была проста, безо всяких излишеств. Он столовался в офицерском собрании и не предъявлял никаких претензий; особенно это бросалось в глаза на манёврах, когда подавалась закуска самого простого вида, так как вообще в Преображенском полку не было никакой роскоши. Это, разумеется, производило большое впечатление на унтер-офицеров и на всех солдат полка{226}.
Два летних сезона Цесаревич посвятил кавалерийской службе в рядах Лейб-гвардии Гусарского полка от взводного до эскадронного командира. Следует сказать, что верховую езду Цесаревич любил с детства. В его детском дневнике можно часто встретить следующие сведения: «Ездили верхом и отлично прыгали через барьер»{227}. Начальник офицерской кавалерийской школы, где Николай Александрович проходил обучение, полковник В. А. Сухомлинов (будущий генерал и военный министр) вспоминал: «Цесаревич очень аккуратно посещал занятия эскадрона школы и прошел все уставное обучение кавалериста, до эскадронного учения включительно. Чрезвычайно внимательно относился ко всем указаниям, разъяснениям и перед эскадроном произносил команды отчетливо, уверенно»{228}.
Один лагерный сбор Наследник прошёл в рядах артиллерии. После прохождения многолетнего курса военной подготовки Великому Князю Николаю Александровичу было присвоено звание полковника, и вплоть до восшествия на престол в 1894 г. он командовал батальоном Преображенского полка. Звание полковника он сохранил на всю жизнь, так как полковничьи погоны он получил из рук столь им любимого отца – Императора Александра III.
Генерал В. А. Сухомлинов вспоминал: «При вступлении на престол Николая Александровича, Великого Князя Николая Михайловича не было в Петербурге. Когда он вернулся в столицу и явился Его Величеству, то Государь, в силу прежних дружеских отношений, встретил его ласково, приветливо и “дернула меня нелегкая”, как он сам рассказывал мне затем, спросить Государя: “А когда же ты сделаешь себя генералом?” Государь сразу же изменился и недовольным тоном ответил ему: “Русскому Царю чины не нужны. В Бозе почивший отец мой дал мне чин, который я сохраню на престоле”»{229}.
6 января 1894 г. в ознаменование годовщины службы Наследника Цесаревича в рядах Лейб-гвардии Преображенского полка Великий Князь Константин Константинович от имени офицеров полка подарил Цесаревичу памятный портсигар. Великий Князь вспоминал: «В 3½ собрались мы в офицерское собрание на товарищеский обед. Было решено, что за этим обедом я вручу Ники полковой подарок – портсигар. Он золотой, рифлённый; с одной стороны, посреди красного эмалевого кружка, в золотом венке из дубовых и лавровых листьев золотой вензель Петра I, как на наших знамёнах, а с другой, в таком же венке и тоже на красной эмали, числа 93 2/1 94 вступления Ники в наши ряды и годовщины. Я задолго приготовил слова, которые хотел сказать Ники при поднесении портсигара, и твердо выучил их наизусть. Но когда шампанское разлили, музыка перестала играть, я встал и выждал, чтобы затих шум отодвигаемых стульев, на меня нашло какое-то затмение; я перезабыл выученные слова и сказал следующее: 2-го января исполнился год со дня, когда Ты вступил в наши ряды командиром батальона. ‹…› Каждый из нас по гроб жизни свято сохранит память о днях, когда служили вместе с Тобой под родными нашими знаменами. Прими же это воспоминание от Преображенской семьи (тут я подал Ники портсигар) и верь, что любовь ее, самая задушевная, беззаветная и горячая, принадлежит Тебе не только как потомку нашего великого Основателя, как сыну нашего Царя и Наследнику его Престола, но как нашему доброму, милому, дорогому и бесценному товарищу»{230}.
Любовь к офицерству Николай II сохранил на всю жизнь. Будучи сам прирождённым военным, он хорошо знал все тяготы и лишения этой профессии.