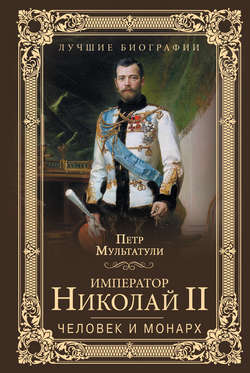Читать книгу Император Николай II. Человек и монарх - Петр Мультатули - Страница 7
Часть I
Наследник русского престола
Глава 4. Путешествие на Восток 1890–1891 гг.
ОглавлениеПо сложившейся в русском Императорском Доме традиции образование Наследника престола завершалось большим заграничным путешествием. Как правило, это были ведущие европейские государства. Однако Император Александр III решил направить своего старшего сына в восточные страны, которые раньше не посещал ни один Цесаревич. За девять месяцев Николай Александрович должен был морским путём посетить Египет, Индию, Цейлон, Сингапур, Яву, Китай, Японию, а далее сухим путем вернуться в Петербург через Сибирь. Когда Государственный секретарь А. А. Половцов убеждал Цесаревича вернуться через Соединённые Штаты, объясняя, что Сибирь он всегда сможет увидеть, то Цесаревич заявил, что он Сибирь хочет увидеть непременно, а Соединённые Штаты повидает «когда-нибудь потом»{231}.
План этого грандиозного путешествия задолго до его начала разрабатывался представителями Генерального штаба и Святейшего Синода. Его составлял воспитатель Цесаревича генерал Г. Г. Данилович, которому помогали адмирал И. А. Шестаков, географ А. И. Воейков. Предстоящему путешествию придавалось большое государственное значение. Это была не увеселительная поездка, а важнейшая миссия: Россия заявляла о своих интересах в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, демонстрировала свою военно-морскую мощь. Наследник должен был установить личные контакты с ведущими монархами восточного мира. Кроме того, Император Александр III решил основать Великую Сибирскую железную дорогу. В 1891 г. намечалось начать строительство восточного участка Транссибирской магистрали из европейской части России до Томска. Эта магистраль должна была стать надежным транспортным путем не только к тихоокеанским окраинам России, но и к зарубежным рынкам Восточной Азии. Чтобы подчеркнуть стратегическую важность начавшегося строительства, Цесаревичу поручено было принять участие в торжественной закладке во Владивостоке. Туда Наследник должен был прибыть морским путём – через Индийский и Тихий океаны.
Путешествие проходило в сопровождении кораблей эскадры вице-адмирала П. Н. Назимова. Николай Александрович главным образом находился на броненосном фрегате «Память Азова», которым командовал капитан 1-го ранга Н. Н. Ломан. (5 мая 1891 г. из-за болезни Ломана в командование кораблём вступил капитан 1-го ранга Г. П. Чухнин).
Главным руководителем путешествия был генерал-майор Свиты князь Владимир Анатольевич Барятинский. Среди других спутников Цесаревича были: флигель-адъютант князь Н. Д. Оболенский, князь В. С. Кочубей, Е. Н. Волков, князь Э. Э. Ухтомский, большой знаток Востока, а также сын великого Д. И. Менделеева – мичман В. Д. Менделеев. Кроме того, Цесаревича сопровождали военно-морской врач В.К. фон Рамбах и художник Н. Н. Гриценко.
Князь Ухтомский подробно описал это путешествие в своём многотомном красочном издании «Путешествие Наследника Цесаревича на Восток». Следует отметить, что князь оказал большое влияние на Наследника в плане обращения его внимания к Восточному региону в свете геополитических интересов России.
23 октября 1890 г. в Гатчине в присутствии всей Царской Семьи был отслужен молебен о путешествующем рабе Божьем Благоверном Наследнике Цесаревиче Николае Александровиче. Затем в 14 ч. Александр III и Императрица Мария Феодоровна на поезде проводили сына до ближайшей остановки – станции Сиверской{232}. 24 октября Наследник прибыл в Варшаву, где имел часовую остановку, принимая гражданские и военные власти. Там же, в Варшаве, Цесаревичу был подан специальный заграничный поезд, на котором он отбыл в Вену, где на Северном вокзале его приветствовал император Франц Иосиф. Он радушно обнял Цесаревича, усадив его в собственный экипаж, на котором они проследовали по улицам австро-венгерской столицы, приветствуемые народом. Торжественный обед в честь Высокого Гостя был дан австрийским императором в его загородной резиденции Шёнбруне. В тот же день вечером Николай Александрович направился в Триест. Там 25 октября 1890 г. к нему присоединился Великий Князь Георгий Александрович, и оба они вступили на борт «Память Азова», на котором был поднят штандарт Цесаревича. В тот же день корабль взял курс на Грецию. В Патрасе Цесаревич благоговейно поклонился мощам святого Апостола Андрея Первозванного{233}. Толпящиеся вокруг храма греки шумно и радостно приветствовали сына русского Царя.
31 октября под колокольный звон всех церквей Цесаревич прибыл в Афины, где к русским путешественникам присоединился греческий принц Георгий.
Первоначально Цесаревич должен был посетить Константинополь (Стамбул) и Святую Землю. Однако из-за конфликта между султанским правительством и православным греческим духовенством эта поездка не состоялась. Генерал Г. Г. Данилович писал Наследнику 12 сентября 1890 г.: «Вашему Императорскому Высочеству, я полагаю, известно, что по докладу министра иностранных дел, Государь Император приказал неудобным посещение Вами Константинополя при предстоящем плавании, так как там возникли весьма серьёзные недоразумения между правительством султана и представителями греческого патриархата; недоразумения эти приняли такой острый характер, что по распоряжению патриарха в православных церквах, как слышно, прекращено богослужение. Мне кажется, что такие неудобства, которые мешают посещению Вами Константинополя, препятствует в равной мере и Вашей поездке в Дамаск и Иерусалим»{234}.
В начале ноября русская эскадра отправилась к берегам Африки, в Египет, в Александрию, где путешественники сделали остановку. В то время как корабли шли по Суэцкому каналу, Цесаревич со своей свитой совершил поездку по Нилу до современного Асуана, осматривая памятники Древнего Египта. 11 ноября путешественники прибыли в Каир. Встреча Наследника прошла на самом высоком уровне. Его приветствовали Александрийский Патриарх Софроний IV (Меиданзоглу) и Коптский патриарх Кирилл{235}.
13 ноября Цесаревич совершил восхождение на знаменитую пирамиду Хеопса, а 14, в день рождения Императрицы Марии Феодоровны, присутствовал на Божественной литургии в каирской православной церкви Святителя Николая.
11 декабря 1890 г. «Память Азова» достиг Индии – главного владения Великобритании на Востоке. «В 8 ч. утра вошли всем отрядом на Бомбейский рейд, – писал Цесаревич в дневнике, – и бросили якорь. Был чудный день. В полной гусарской форме съехал на берег с греч[еским]. Джорджи. Торжественная встреча англичан. Живём в летней резиденции губернатора – очень хорошо»{236}.
Однако за этими фразами скрывалась глубокая неприязнь Наследника к «Владычице морей». Те же чувство слышны и в письме Александра III старшему сыну, когда тот прибыл в Бомбей: «Я воображаю, как Ты теперь “доволен” быть в Индии и как Тебе должно казаться странным быть вдруг там, посреди далеко нам не сочувствующей нации, в царстве красных мундиров[25] и посреди далеко не верноподданных Императрицы Индии[26]! Конечно, англичане Тебя будут везде встречать с почётом и даже весьма любезно, но увлекаться этому не следует и в Англии твоя поездка по Индии далеко многим не по нутру!»{237}
Посещая английские колониальные владения, Николай Александрович воспринимал Великобританию как врага и соперника России: «Досадно видеть, – писал он отцу из Каира, – как англичане разгуливают в мундирах по городу, как будто в Лондоне»{238}. В другом письме Александру III Наследник пишет, что «англичане думают и стараются только для себя и своей выгоды»{239}. Посетив Каунпор, центр восстания сипаев в 1857 г., и выслушав рассказы сопровождавших его англичан о зверствах, творимых здесь индийцами, Цесаревич «не удержался и напомнил англичанам о тех же мерах, какими они сами пользовались после подавления мятежа – расстреливая бунтовщиков у дула орудий»{240}. В Бенаресе Наследника русского престола возмутило поведение английского наместника, который встретил Цесаревича, оставив за спиной местного индийского князька. Для Николая Александровича было совершенно неважно, что этот магараджа «владеет небольшим клочком вне Бенареса». Это нисколько не извиняет английского чиновника проявлять такую «непочтительность к туземному князю»{241}. В этой реакции будущего Государя особенно ярко проявляется антиколониальный, антирасистский дух русской монархии. Подобная мысль не могла прийти в голову, конечно, ни одному западному монарху. Путешествие на Восток и впечатления от английского колониализма ещё больше утвердили будущего Императора в мысли, что «мы должны быть сильнее англичан в Тихом океане»{242}.
31 декабря Цесаревич прибыл на Цейлон (Шри-Ланку), где встретился с возвращавшимися из далёких краёв на яхте «Тамара» Великими Князьями Александром и Сергеем Михайловичами. Они прибыли на остров специально поохотиться на слонов. Наследник, заядлый охотник, на этот раз от неё отказался, заявив, что он никогда не хотел бы убить «такое полезное животное», как слон{243}. В Национальном Ботаническом саду Коломбо Цесаревич посадил железное дерево, которое существует до сих пор, и посещается туристами. Между тем у Великого Князя Георгия Александровича стали проявляться первые признаки туберкулёза. 23 января 1891 г. он был вынужден перейти на крейсер «Адмирал Корнилов», который отвёз его на родину.
В феврале 1891 г. отряд кораблей, возглавляемый «Памятью Азова», приближался к берегам Сиама (Таиланда). Англичане крайне противились появлению русского Престолонаследника в этом королевстве, которое входило в небольшое число неколонизированных государств этого региона. На Сиам были направлены алчные взоры как Лондона, так и Парижа. На подходе к Бангкоку руководитель экспедиции князь В. А. Барятинский получил сообщение от русского консула в Сингапуре А. М. Выводцева, что англичане распространяют слухи, что в Сиаме свирепствует холера и следовать туда ни в коем случае нельзя. Поэтому для сиамского короля Чулалонгкорна (Рамы V) посещение его государства Наследным принцем величайшей державы имело важное политическое значение. В связи с этим король 6/18 февраля 1891 г. направил Цесаревичу Николаю личное письмо, в котором говорилось: «Ваше Императорское Высочество! По прибытии Вашего Императорского Высочества в Сингапур Вы будете встречены моим возлюбленным братом Кром-Мун-Дамронг-Раджануфаб, посланным мной на моем военном судне “Монгкут-Раджкумар” для приветствования Вашего Императорского Высочества от моего имени, ввиду Вашего приближения к моей стране. Брат мой явится выразителем чувств, питаемых мной и моим домом по отношению к Августейшему Русскому Императорскому Дому, благородный отпрыск коего впервые в сиамской истории посещает эти побережья»{244}.
Цесаревич в ответном любезном письме согласился посетить Бангкок и 17/29 февраля принял брата короля в Сингапуре: «Он очень обрадованный и приятный собеседник, отлично говорит по-английски; видно из его рассказов, что меня ожидают в Сиаме»{245}.
8/20 марта «Память Азова» бросил якорь в порту Бангкока. Программа пребывания русского Престолонаследника в столице Сиама была рассчитана на 5 дней. Князь Ухтомский вспоминал: «Полдень близко. Воздух кажется раскаленным. Наследник Цесаревич в парадной лейб-гусарской форме выходит из фантастической “пироги” с 46 театрально наряженными гребцами на берег под небольшую арку, у которой Его Императорское Высочество встречает король Чулалонгкорн… Сорокалетний, среднего роста, стройный красавец-король… радостно приветствует Желанного Гостя и знакомит Августейших путешественников со своей многочисленной семьей»{246}. Помимо официального протокола между королём и Наследником возникли чувства глубокой симпатии. В инструкции русскому консулу в Нью-Йорке А. Е. Ораловскому, отправлявшемуся на своё новое место службы в Бангкок, сообщалось: «Могучий толчок пробудившемуся влечению Сиама в сторону России был дан состоявшимся посещением бангкокского двора Всемилостивейшим Государем нашим в качестве русского престолонаследника в 1891 г. во время предпринятого на Дальний Восток путешествия. Оказанный Его Императорскому Величеству королём Чулалонгкорном и всем населением страны торжественный приём, полный самого искреннего радушия и внимания, явился той данью признательного уважения, которую король, а с ним вместе и все его подданные в лице высокого своего гостя желали воздать русскому Царю и России»{247}.
Сиам произвёл на Николая Александровича самое хорошее впечатление. Жителей страны русский Престолонаследник называл не иначе как «добрые сиамцы», а сам Сиам – «отлично устроенной страной». «По-моему, – писал Цесаревич Александру III, – это самая интересная и своеобразная страна, которую мы до сих пор видели»{248}. Через 5 лет эти чувства глубокой симпатии побудили Императора Николая II сделать всё, чтобы Сиам сохранил свою независимость и не стал французской колонией.
Особенно знаменательным был визит Цесаревича Николая Александровича в Японию, которая, писал он Императрице Марии Феодоровне, ему «страшно нравится, это совершенно другая страна, непохожая на те, которые мы до сих пор видели»{249}.
Наследник престола прибыл в эту страну на флагмане «Память Азова», который вошел в бухту Нагасаки 15 апреля 1891 г. Николай Александрович пробыл там девять дней «инкогнито» (официальная церемония вступления его на японскую землю была запланирована позднее). «Японцы в Нагасаки почти все говорят по-русски, – писал в том же письме матери Цесаревич, – не только в магазинах, но и в лавках, и на базарах, недаром наши моряки считают себя дома во время стоянки в Нагасаки»{250}. Единственное, что не понравилось Цесаревичу в Японии, была местная кухня. «Еда японская, – сообщал он Марии Феодоровне, – хуже китайской. Мне это было очень досадно, так как во всём остальном Япония совершенно несравнима с грязным вонючим Китаем»{251}.
В Нагасаки Николай Александрович посетил русское военное кладбище в Инасе (пригород Нагасаки). «Я был на нашем кладбище, – писал он Императрице Марии Феодоровне. – Оно очень искусно содержится японским бонзой-священником»{252}.
По имеющемуся преданию, этот японский священнослужитель посоветовал русскому Царевичу посетить известного буддийского отшельника Теракуто, «взору которого открыты тайны мира и судьбы людей»{253}. Переодевшись в гражданскую одежду, Цесаревич, в сопровождении принца Греческого Георгия и советника японского императора маркиза Ито Хиробуми, пешком направился к Теракуто, жившему в одной из рощ вблизи Киото. «Уже издали, подходящие увидели распростертую фигуру затворника-буддиста. Наследник наклонился и бережно поднял его с земли». Теракуто «невидящими глазами» обратился к Цесаревичу, назвав его «Небесным избранником» и «великим искупителем». Затем монах предупредил Николая Александровича о «витающей над его головой опасности», но «смерть отступит и трость будет сильнее меча», а затем предрек ему «два венца»: земной и небесный. «Великие скорби и потрясения ждут Тебя и страну твою. Ты будешь бороться за ВСЕХ, а ВСЕ будут против Тебя. На краю бездны цветут красивые Цветы, но яд их тлетворен: дети рвутся к цветам и падают в бездну, если не слушают Отца. Блажен, кто кладет душу свою за други своя. Трижды блаженней, кто положит ее за врагов своих. Но нет блаженней жертвы Твоей за весь народ Твой. Настанет, что Ты жив, а народ мертв, но сбудется: народ спасен, а (Ты) свят и бессмертен. Оружие Твое против злобы – кротость, против обиды – прощение. И друзья, и враги преклонятся пред Тобою, враги же народа Твоего истребятся. Вижу огненные языки над главой Твоей и Семьей Твоей. Это – посвящение. Вижу бесчисленные священные огни в алтарях пред Вами. Это исполнение. Да принесется чистая жертва и совершится искупление. Станешь Ты осиянной преградой злу в мире»{254}.
Источник этого рассказа владыка Митрофан не указывает. Имеются ссылки на якобы существующие мемуары маркиза Ито Хиробуми, в которых тот сообщает об этом случае. Однако никаких сведений о существовании мемуаров японского премьера не имеется. Нет упоминаний об этой встрече ни в книге Э. Э. Ухтомского, ни в дневниках самого Николая Александровича. Кроме того, представляется странным, чтобы буддийский отшельник использовало евангельские слова «за други своя». Поэтому на сегодняшний день факт встречи Теракуто с Николаем II следует считать апокрифом.
22 апреля 1892 г. Цесаревича Николая навестил японский принц Арисугава Такехито, прибывший со свитой на крейсер «Память Азова» в качестве личного представителя японского императора. В городе Кагосиме Цесаревич наблюдал состязания по борьбе, стрельбе из лука, осмотрел выставку средневекового японского оружия, побывал в замке князя Симадзу. Он очень растрогал местного князя, выпив за его здоровье, по японскому обычаю, чашечку саке, этим жестом подав пример сделать то же самое присутствовавшему при этом принцу Арисугаве, что было весьма лестно для старого князя{255}.
В Стране восходящего солнца со стороны буддистского духовенства Цесаревичу Николаю был оказан подчёркнуто почтительный приём. При входе Цесаревича в буддийский храм священнослужители повергались пред ним ниц, а когда он их поднимал, смотрели на него с благоговением и с трепетом, торжественно вводили его в святилище. При этом лиц свиты, кто хотел войти вслед за Цесаревичем, не пускали. Когда такую попытку предпринял принц Георгий Греческий, ламы преградили ему путь. Как писал епископ Митрофан (Зноско-Боровский), «каждая такая встреча носила характер какого-то непонятного таинственного культа, совершаемого пред высшим воплощением, по воле Небес сошедшего на землю с особой миссией»{256}.
27 апреля Цесаревич на поезде прибыл в Киото, древнюю столицу Японии. Здесь традиционно к иностранцам относились враждебно, а недавний визит принца Генриха Прусского едва не закончился трагически, так как фанатичная толпа пыталась наброситься на него. Тем не менее визит Цесаревича Николая прошёл в обстановке особой торжественности, дома были украшены цветными фонариками и хлопчатобумажной материей. Цесаревич проехал через специально по случаю его приезда воздвигнутую на центральной улице триумфальную арку, украшенную надписью по-русски «Добро пожаловать!». В Киото Цесаревич осмотрел древний храм и бывшую резиденцию сёгуна.
29 апреля 1891 г. Наследник на джинрикше отправился из Киото в город Оцу. После осмотра живописного озера Бива Николай Александрович, принц Георг Греческий и японский принц Арисугава Такехито вернулись в губернаторскую резиденцию. После обеда, около 13 час. 20 мин., кортеж примерно из 50 джинрикш двинулся по узким улочкам Оцу обратно в Киото. В первой повозке сидел Цесаревич, во второй – принц Греческий, в третьей – принц Арисугава. За монаршими особами следовали джинрикши с лейб-медиком и лицами русской и японской свиты. Улица была крайне узкой, с обеих её сторон стояли полицейские, вооружённые мечами катана{257}. Внезапно один из них, как позже выяснилось Сандзо Цуда, улучив момент, подбежал к повозке, где был Цесаревич, и нанёс ему сзади удар мечом по голове. В последний момент Цесаревич обернулся, клинок скользнул и лишь слегка его ранил. Японец хотел повторить удар, но был сбит с ног вовремя подоспевшим принцем Георгием.
Николай Александрович писал Императрице, что «не будь Джорджи, может быть милая Мама, я бы вас больше не видел!»{258} В письмах своим Родителям Цесаревич подробно описал обстоятельства покушения. Наследник рассказывал, что Георг «догнал бежавшего за мной полицейского и своей известной силой ударил его по голове. Тот сразу повернулся и уже замахнулся на Джорджи саблей, но тотчас же смертельно бледный повалился на землю. Тогда на него набросились двое из моих молодцов дженрикшей и стали держать, так как он старался вырваться, то для верности один из них хватил его по шее саблей и затем его затащили в ближайший дом. ‹…› На голове у меня оказалось две раны, но до сих пор спорный вопрос о том, получил ли я два удара, или один. ‹…› Самым неприятным было бежать и чувствовать того подлеца за собой и вместе с тем не знать, как долго этого рода удовольствие продлится? Я боялся одного – упасть или просто ослабеть, так как в первую минуту кровь хлынула фонтаном»{259}.
В письме к Марии Феодоровне Наследник сообщал новые подробности покушения: «Не успели мы отъехать двухсот шагов, как вдруг на середину улицы бросается японский полицейский и, держа саблю обеими руками, ударяет меня сзади по голове! Я крикнул ему по-русски: «что тебе»? и сделал прыжок через моего дженрикшу. Обернувшись, я увидел, что он бежит на меня с еще раз поднятой саблей, я со всех ног бросился по улице, придавив рану на голове рукой»{260}.
Цесаревича посадили на скамейку возле одного из домов, чтобы оказать первую помощь. Николай Александрович произнёс: «Это ничего, только бы японцы не подумали, что это происшествие может чем-либо изменить мои чувства к ним и признательность мою за их радушие»{261}. То же самое Цесаревич повторил подбежавшему к нему Арисугаве. Врач В. К. фон Рамбах немедленно на месте сделал первую крепкую перевязку.
Сандзо Цуда был сразу же арестован. Позже суд приговорил его к пожизненному заключению в тюрьме на острове Хоккайдо, где 30 сентября 1891 г. Цуда умер от пневмонии, по другим сведениям, покончил с собой. На суде он мотивировал свои действия тем, что якобы принял Цесаревича за европейского шпиона.
Между тем Наследника повезли обратно в губернаторский дом. Там «сейчас же Рамбах, Попов с “Азова” и Смирнов с “Мономаха”, – писал Наследник отцу, – приступили к промыванию и зашиванию ран. Я себя чувствовал великолепно и без всякой боли. Но что меня страшно мучило, это мысль о вашем беспокойстве и о том, что неверные слухи могли дойти до вас раньше моей телеграммы»{262}. В целом состояние Цесаревича было удовлетворительным, он улыбался и шутил.
2 мая 1891 г. руководитель путешествия генерал-майор свиты князь В. А. Барятинский сообщил о случившемся Императору Александру III. Описывая состояние Наследника после ранения, князь писал: «Николай Александрович был спокоен и сохранил все присутствие духа, успокаивая всех и говоря, что он особенного ничего не чувствует и что рана пустая. В отношении совершенно растерявшихся японцев Цесаревич выказал удивительную доброту; он сейчас же сказал Принцу Арисугава: “Прошу вас ни минуты не думайте, что это происшествие может испортить хорошее впечатление, произведенное на меня радушным приемом, встреченным мною всюду в Японии”. У всех были слезы на глазах! ‹…› Дома, в Киото, рана была подробно исследована всеми тремя докторами, наложены швы и повязка. Николай Александрович благодаря Богу чувствовал себя в это время хорошо, разговаривал и шутил»{263}.
Из этого протокола следовало, что орудием покушения был стандартный полицейский меч катана с длиной лезвия около 58 см. Чудом, но Наследник серьёзно не пострадал. Ему были нанесены две раны на правой стороне головы. Одна из них была длиной около 9 см и достаточно глубока, поскольку проникла до кости. Впоследствии врач эскадры удалил с костной ткани тонкий слой площадью приблизительно 7 × 3 мм. Вторая рана была длиной 7 см, но кость в этом месте задета не была.
6 мая 1891 г., то есть в свой день рождения, Цесаревич получил письмо от Державного отца: «От всей души благодарим Господа, милый мой Ники, за Его великую милость, что Он сохранил Тебя нам на радость и утешение. До сих пор ещё не верится, чтобы это была правда, что действительно Ты был ранен, что всё это не сон, не отвратительный кошмар»{264}.
Написал письмо и самый младший брат, 12-летний Великий Князь Михаил: «Мне было очень грустно, когда я узнал, что случилось с Тобою в Японии. Слава Богу, что раны не были очень опасны. Я буду ужасно рад, когда Ты вернёшься и Георгий также. Миша»{265}.
Хотя серьёзных последствий удар не имел, Николай II до конца жизни страдал головными болями. 25 мая 1891 г. Николай Александрович записал в своём дневнике: «Вечером Рамбах вынул с головы последний шов и снял весь шрам»{266}.
Впоследствии появилось расхожее мнение, что будто бы покушение в Оцу настроило Императора Николая II враждебно в отношении Японии и будто бы это стало причиной войны с нею. В частности, С. Ю. Витте в своих воспоминаниях писал, что покушение «вызвало в душе будущего Императора отрицательное отношение к японцам…»{267}. Однако эти домыслы опровергаются самим Государем. Сразу же после покушения он писал матери: «Япония так же нравится мне и теперь, как раньше, и случай со мной 29 апреля не оставил во мне никакого неприятного чувства»{268}. В том же письме Николай Александрович сообщал, что его «очень тронуло, что японцы становились на колени при проезде на улице и имели печальные лица»{269}.
Японцы были крайне взволнованы возможными политическим последствиями со стороны России. Нельзя было исключать с её стороны даже военных действий. На следующее утро с токийского вокзала отошёл специальный поезд, в котором находился сам император (микадо) Муцухито, спешивший с личными извинениями. В Японии микадо почитался за божество, и его передвижение являлось важным государственным событием. Микадо вёз с собой группу профессоров медицины из Токийского университета. Муцухито встретился с Цесаревичем и выразил ему свои слова соболезнования. Сыну русского Царя был пожалован высший японский орден Хризантемы. Из Осаки прибыли три парохода, нагруженные подношениями и подарками от купцов этого крупнейшего торгового города Японии. Извинения японцев были приняты Александром III и тяжёлых последствий для отношений двух стран не имели. Уже в своём письме сыну 6 мая Царь писал: «Я воображаю отчаяние Микадо и всех сановников японских, и как жаль для них и все приготовления и празднества – всё пропало и ни к чему! Но Бог с ними со всеми, радуюсь и счастлив, что, благодаря всему этому, Ты можешь начать обратное путешествие скорее и раньше, дай Бог, вернёшься к нам!»{270}
По настоятельной просьбе русского посланника в Японии Д. Е. Шевича Александр III 7 мая 1891 г. приказал прервать визит Великого Князя Николая Александровича в Японию. Микадо лично провожал Цесаревича на корабль. Преждевременный отъезд Николая Александровича из Японии помешал его участию в торжественной церемонии освящения нового православного собора, сооружённого при деятельном участии святителя архиепископа Николая (Касаткина) в центре японской столицы.
Покушение в Оцу взволновало русское общество. Известный поэт А. Н. Майков посвятил Великому Князю Николаю Александровичу стихотворение, которое направил Императору Александру III. «Ваше Императорское Величество. Я сам отец и знаю, что всякое сердечное участие в горе и радости по поводу наших детей услада родительскому сердцу. Вот почему я дерзаю представить Вам эти несколько строчек стихов, вызванных доселе непонятным событием с Государем наследником Цесаревичем в Японии»{271}.
Царственный Юноша, дважды спасенный!
Явлен двукраты Руси умиленной
Божия Промысла щит над Тобой!
Вихрем промчалася весть громовая,
Скрытое пламя в сердцах подымая
В общем порыве к молитве святой.
С этой молитвой – всей Русской землей,
Всеми сердцами Ты глубже усвоен…
Шествуй же в путь свой и бодр, и спокоен.
Чист перед Богом и светел душой.
16 мая 1891 г. Николай Александрович прибыл во Владивосток. За пять месяцев до этого Городская дума 12 января 1891 г. постановила: для увековечивания памяти посещения Владивостока Наследником Цесаревичем построить на перекрёстке Светланской и Прудовой улиц из камня и кирпича Триумфальные ворота, с постановкой в оных образа Святителя Николая Чудотворца с неугасимою лампадой. Дума ходатайствовала о присвоении этим воротам имени Николаевских. Именно через эту арку Цесаревич и въехал во Владивосток. В день своего прибытия он объявил Приамурскому генерал-губернатору барону А. Н. Корфу именной Высочайший Указ, в котором «в ознаменование посещения Сибири Любезнейшим Сыном нашим, Государем Наследником Цесаревичем и Великим Князем Николаем Александровичем», Государь объявлял амнистию широкому кругу каторжан{272}.
Утром 17 мая Цесаревич Николай Александрович принял участие в торжественной церемонии закладки памятника исследователю Дальнего Востока адмиралу Г. И. Невельскому. После закладки Цесаревич посетил военный лагерь, при отъезде из которого офицеры отпрягли лошадей и сами повезли коляску с Августейшим гостем под громовое «ура!» войск и народа{273}.
19 мая Цесаревич принял участие в торжественной церемонии начала строительства уссурийского участка Транссибирской железнодорожной магистрали и в закладке здания Владивостокского вокзала. Цесаревич провёз символическую тачку с землёй для железнодорожной насыпи. К моменту приезда Наследника было уже построено 3 км железнодорожных путей, и Цесаревич совершил пробную поездку по этому участку. Через два года поезда уже ходили от Владивостока до Никольско-Уссурийска, а строительство всей магистрали в целом было завершено в 1904 г.
30 мая Цесаревич попрощался с командой «Память Азова». Мичман В. Д. Менделеев писал своему знаменитому отцу: «Милый Папа́! Вот наши торжества и кончились. Трудно описать ту грусть, с которой все расставались с Цесаревичем: за 7 месяцев все так привыкли к нему как к человеку, как к простому и ласковому юноше…»{274}
Возвращение Цесаревича домой из Владивостока пролегало через Сибирь, которая произвела на будущего Николая II огромное впечатление. Разные культуры, народы, обычаи тесно переплетались с красивейшими городами и великолепной природой. «Что за громадина Амур, – писал он отцу, – мы шли 10 дней вверх по нему и затем вошли в Шилку, которая тоже не из маленьких»{275}. Великому Князю Александру Михайловичу Цесаревич писал по поводу Сибири: «Я в таком восторге от того, что видел, что только устно могу передать впечатления об этой богатой и великолепной стране, до сих пор так мало известной и (к стыду, сказать) почти незнакомой нам, русским!»{276}
В степях буряты радушно встречали сына Белого Царя. На р. Тура Наследник встречался с представителями агинских бурят. Для этого был построен юртовый городок, в центре которого для Цесаревича поставили юрты из 10 раздвижных стен с полным убранством, установили трибуну для зрителей конноспортивных и других состязаний. В состав агинской делегации во главе с гл. тайшой Ж. Зоригтуевым входили руководитель Агинской степной Думы и знатные люди С. Зодбоев, Ж. Бодийн, Э. Вамбоцыренов. Баргузинские буряты подарили Цесаревичу седло, лук и стрелы, два ковра и соболий мех. Эти подарки были преподнесены Николаю Александровичу в буддийском храме под чтение ламами мантр, звуки труб и «чего-то играющего роль литавр». При вручении подарков, Наследнику пришлось «влезть на трон почти под самый потолок»{277}.
Примечательно то особое священное почитание Цесаревича, как сына Белого Царя, которое проявляли различные восточные народы. В Аннаме, южновьетнамской французской колонии, все были поражены, когда аннамские духовные лица и старики пали ниц перед Цесаревичем. Как писал князь Успенский: «Лицезрея в Наследнике Цесаревиче Первенца Белого Царя, коего Именем и обаянием полон весь Восток, почитая в Августейшем путешественнике Высокого Гостя, прибывшего в их буддийский край, аннамские «духовные и старики» пали ниц перед милостиво их принявшим Великим князем»{278}.
По всему следованию Наследника по Сибири, в каждом посещаемом населённом пункте его встречали почётные депутации. Каждая из них считала долгом преподнести Высокому гостю хлеб-соль и местные деликатесы, состоявшие из икры и солёной рыбы. Стояла страшная жара, и Цесаревичу сильно хотелось пить, и при этом его угощали одними солёными кушаньями. С тех пор Государь никогда не ел икры или солёной рыбы{279}.
14 июня 1891 г. пароходы «Вестник» и «Ермак», на котором следовал Цесаревич, вошли в одно из устьев Нерчи. Опасение наткнуться на мель побудило остановиться в 4 верстах от Нерчинска, куда Наследник Цесаревич и его свита прибыли в коляске вместе с генерал-губернатором. На городской площади выстроился почётный караул 9-го пешего казачьего батальона, воинские части гарнизона, колонны учащихся. Пройдя мимо учеников и учениц Нерчинских учебных заведений, усыпавших путь цветами, Николай Александрович был встречен городскою депутацией, поднесшей на серебряном блюде хлеб-соль, которое было с благосклонностью принято. Выслушав приветствие, Августейший путешественник удостоился принять также поднесённый ему дочерью Нерчинского окружного начальника букет, а затем сел в экипаж для следования к собору. За коляской бежали тысячи людей, сопровождая её до собора{280}. Затем Наследник внимательно осматривал Нерчинский краеведческий музей, где пробыл около часа. После музея Престолонаследник посетил Софийскую женскую гимназию, духовное и уездное городские училища, выслушав пение учащихся. В письме к Императрице Марии Феодоровне Цесаревич Николай с иронией сообщает о восторженном приёме, оказанном ему в женских гимназиях: «Я должен был всё время стоять и ходить облепленный кругом институтками – это было своего рода пыткой. Они меня чуть-чуть не раздели, потому что каждая хотела держать что-нибудь в руках, шапку, или фуражку. Я теперь остался почти без платков и перчаток, столько их пришлось раздать в женских гимназиях»{281}.
В 19 час. в доме золотопромышленника Н. Д. Бутина, прекрасно иллюминированном, был дан торжественный ужин в честь Цесаревича. В разгар торжества на небе с востока внезапно появился огненный шар, который повис над Бутинским домом и затем погас{282}.
15 июня в 9 час. утра Цесаревич отбыл из Нерчинска, а 17 июня прибыл в Читу. Князь Ухтомский писал: «При самом въезде в город, в конце Ангарской улицы, красовалась деревянная арка». От арки к месту остановки экипажей дорога была устлана сукном. Путь следования был определен по центральным улицам города{283}. Толпы народа сопровождали Наследника Цесаревича на всем пути следования по улицам Читы, во всех церквях начался перезвон, который продолжался все время пребывания Августейшего Гостя. У ворот Казанской церкви, построенной в 1866 г. на Михайловской площади, Наследника ожидал Преосвященный Макарий в сопровождении 16 священнослужителей, 4 дьяконов, с хоругвями, святым крестом и водою. В церкви была совершена лития с провозглашением многолетия, и Владыка Макарий подарил Цесаревичу образ Господа Вседержителя.
5 июля в 9 час. 55 мин. экипаж Цесаревича въехал в город, приветствуемый народом. За въездом Наследника в Томск наблюдал один тринадцатилетний мальчик. Через много лет он вспоминал об этом: «Наследника в Томск, то есть последний перегон, вёз один содержатель постоялого двора – еврей, который на тройке вороных и примчал Наследника в город. Вызвало тогда немало разговоров, что Наследник решился ехать на еврейских лошадях и еврей сам же управлял этой тройкой. Тогда же рассказывали, что Наследник попробовал приготовленный еврейский пряник и другие кушанья»{284}. Ровно через 27 лет этот мальчик станет палачом-чекистом и убьёт Императора Николая II и всю его Семью. Его звали Янкель Юровский. Примечательно, что 5 июля в XIX в. соответствовало 17 июля григорианского календаря.
От имени духовенства Наследника престола приветствовал епископ Томский и Семипалатинский Макарий (Невский). Тогда ни Владыке, ни Цесаревичу было не дано знать, что оба они будут первыми жертвами безбожного Февральского переворота в 1917 г.
После торжественной встречи его духовенством и городскими властями Наследник Цесаревич посетил могилу старца Федора Козьмича, который, согласно преданию, был не кем иным, как тайно покинувшим престол Императором Александром I Благословенным. Примечательно, что посещение могилы старца было осуществлено Наследником тайно. В официальной части программы его пребывания в Томске оно отмечено не было. Не нашло это посещение своего отражения ни в дневнике Николая II за 1891 г., ни в его письмах родителям за этот же период. Однако сам факт этого посещения не вызывает сомнений. Он отражён в книге биографа Александра I Великого Князя Николая Михайловича{285}. Кроме того, факт посещения подтверждается жителем Томска И. Г. Чистяковым, зятем купца С. Ф. Хромова, хорошо знавшего почившего старца, которому об этом рассказывал лично князь Э. Э. Успенский, сопровождавший Цесаревича{286}. Николай Александрович посетил келью и могилу Феодора Козьмича и повелел над могилой старца вместо часовни построить большую каменную церковь. Этому повелению так и не суждено было быть исполненным.
Ночь Цесаревич провёл в доме губернатора. На следующий день, 6 июля, Наследник посетил Императорский Томский университет, где пообщался с преподавателями и студентами. В начале первого часа дня Цесаревич простился с томичами и на пароходе «Николай» отбыл по реке в сторону Тобольска.
8 июля пароход с Наследником на борту вошёл в пределы Тобольской губернии. Первая остановка была в Сургуте. Как и всюду, местные жители самым восторженным образом встречали Цесаревича. Девицы в дар ему преподнесли свои рукоделия, шитые скатерти и полотенца, крестьянин Иван Шеймин привёл в подарок медведя, а инородцы – две лисицы и молодого оленя{287}. Это нашло отражение в дневнике Великого Князя Николая Александровича: «Два отставных казака хотели подарить один оленя, другой медвежонка, но я зверей не принял, а одарил их, так как невозможно таскать по всей Сибири разных животных и без них уже достаточно возни!»{288}
Все старались чем-нибудь одарить Наследника, выразив тем самым ему свою любовь. Всё дальнейшее следование Цесаревича на пароходе по Иртышу сопровождалось восторженными приветствиями местных жителей, толпившихся по обеим берегам реки, духовенство в полном облачении служило благодарственные молебны и осеняло пароход крестом.
Вечером 10 июля Цесаревич прибыл в Тобольск, который через 26 лет станет местом его ссылки. С пристани Цесаревич последовал в Тобольский кафедральный Софийско-Успенский собор, возле которого был встречен громовым «ура!» сотен тоболяков, собравшихся на соборной площади. На паперти собора Наследника приветствовал митрополит Тобольский и Сибирский Иустин (Полянский){289}.
После краткого молебствия Цесаревич приложился к чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Абалакской, а также к иконам Спасителя и Пресвятой Богородицы, дар собору Царя Феодора Иоанновича. Затем Николай Александрович осмотрел город и памятник Ермаку. Около 1 час. ночи 11 июля пароход с Цесаревичем на борту взял курс на г. Омск.
Отойдя от Тобольска, пароход с Наследником через несколько верст был приветствуем всей братией Абалакской обители, расположенной на высоком и крутом берегу Иртыша. Кроме братии, на берег заранее пришло много местных жителей, которые почти всю ночь ждали появление на реке парохода Цесаревича. Когда же он наконец появился, то старший из иеромонахов высоко поднял крест и громко произнёс: «Да благословит тебя Господь от Сиона». Все колокола монастыря начали звонить. Народ, благоговейно крестясь, бежал вдоль берега за плывущим пароходом{290}.
16 июля в 7¼ утра Августейший путешественник остановился на ночлег в селе Покровское{291}. Наследнику не дано было знать, что в этом селе живёт крестьянский подросток, с которым через 15 лет его самым тесным образом свяжет жизнь. Юного крестьянина звали Григорий Распутин.
26 июля 1891 г. Цесаревич Николай прибыл в Оренбург. На въезде в город его встречала надпись: «Да благословит Всевышний благие начинания и дальнейшие пути Его Высочества и сохранит драгоценную жизнь Государя Наследника на многие, многие лета на радость любвеобильному Царю и на благо народов»{292}. Наследника встречали исполняющий должность губернатора А. А. Ломачевский, представители сословий, епископ Оренбургский и Уральский Макарий. 27 июля Наследник принимал депутации и знакомился с городом. В частности, он посетил знаменитый Неплюевский кадетский корпус и мужскую гимназию. В этот же день в Оренбурге состоялся военный парад оренбургских казаков с участием Наследника Цесаревича, который являлся Августейшим атаманом войска. Затем Николай Александрович принял казаков – георгиевских кавалеров. Таким образом, Цесаревич Николай Александрович за неделю, проехав более тысячи верст, ознакомился с Оренбургской губернией, принимая многочисленные депутации, присутствуя на молебнах и смотрах, посещая учебные заведения, устраивая торжественные обеды. В путешествии Наследник находился в постоянном общении с местным населением, он посещал дома казаков, купцов, местных чиновников, крестьян.
Путешествие Наследника Цесаревича подходило к концу. В последних письмах перед долгожданной встречей Отец-Император не забывал напомнить сыну о вознесении благодарности Богу за благополучное завершение главного этапа пути. «Когда будешь на обратном пути в Москве, – писал Александр III 25 июля 1891 г., – то устрой так, чтобы можно было-бы Тебе поехать на несколько часов в Троицкую Серг[иевскую] Лавру, это я нахожу весьма желательным и достойно закончит Твое долгое и утомительное путешествие»{293}. 4 августа 1891 г. Императорский поезд доставил Цесаревича в «милую Гатчину».