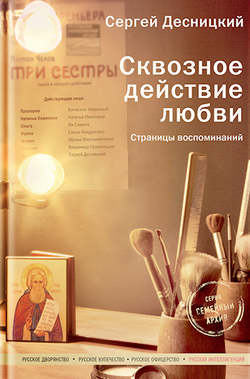Читать книгу Сквозное действие любви. Страницы воспоминаний - Сергей Десницкий - Страница 11
Из первой книжки воспоминаний
Начало
(ноябрь 1943 г. – июнь 1958 г.)
Глеб Сергеевич – генерал, но не все то золото, что блестит
ОглавлениеЛетом 1953 года мы узнали, что отцу присвоено звание генерал-майора. Вот это был праздник! Меня всего распирало от гордости!.. Как же?.. Мой папа – генерал! В Житомире он был единственным, кто имел такое звание. А я – соответственно единственным сыном единственного генерала!.. Во как!.. Семилетнего брата я в расчет, естественно, не брал: он был слишком мал, чтобы понимать, какой чести удостоился.
В связи с повышением в звании, папе выдали новую форму, и я стал свидетелем первой примерки парадного мундира. Радости моей не было границ!.. Вы не представляете, какое это наслаждение – открывать картонные коробочки и извлекать оттуда генеральские погоны, лычки с пальмовой веткой, генеральский кортик, расшитый золотом пояс!.. Словом, все то, что отличает генерала от простого офицера, и я не понимал, почему отец, глядя на себя в зеркало и нервно теребя аксельбанты, что свисали с его плеча, недовольно бурчал под нос: «Нарядили словно клоуна в цирке!..»
Как он был красив!.. И что бы там ни бурчал, но лучше его не было на всем белом свете!..
Есть люди, которым идут фетровые шляпы, для других лучший головной убор – кожаная кепка или французский шерстяной берет. Глеб Сергеевич Десницкий был рожден для того, чтобы носить генеральский мундир!.. Те, кто знал его, наверняка поймут, почему я тогда, в сентябре 53-го года, испытал ни с чем не сравнимый восторг, глядя на него в парадной форме при всех орденах!..
Может, это покажется странным, но больше я никогда не видел его в этом наряде. Отец даже на праздники предпочитал надевать повседневный китель и вообще стеснялся всего, что подчеркнуто выделяло его из массы остальных людей, и, выйдя в отставку, предпочел бы ходить в штатском, но… Цивильного костюма у него не было. То есть был у него черный выходной костюм, который он пошил себе в ателье Генерального штаба в 58-м году, но с тех пор никаких обновок не приобретал. Я вообще не помню, чтобы в его гардеробе висело пальто или плащ. Куртка из модного в те годы материала «болонья» была, но, по-моему, отец ездил в ней только на дачу, а в городе я всегда помню его в серой генеральской шинели. Год от года она старела вместе с ним, но имела вполне приличный вид, потому что Глеб Сергеевич был необыкновенным «аккуратистом» и вещи свои содержал в идеальном порядке. Вообще носить форму папа любил, и я отлично помню, как он говорил, что лучше, удобнее одежды, чем гимнастерка, люди не придумали со дня сотворения мира. И в далеком 53-м я был с ним абсолютно солидарен.
Боже!.. Как я мечтал поступить в Суворовское училище!.. И главным побудительным мотивом этого желания была форма суворовцев. В своих мечтах я представлял, как я приезжаю домой на каникулы, и не только все училищные девчонки, но и самые шпанистые парни с завистью смотрят, как ладно сидит на мне черная гимнастерка с алыми погонами и как ловко я отдаю честь встречным курсантам и офицерам!
Как-то раз за обедом я робко заикнулся о своем заветном желании… Боже!.. Что сделалось с мамой!.. Она бросила ложку, выскочила из-за стола и с глазами, полными неподдельного гнева, закричала так громко, что, наверное, было слышно даже на улице: «Только через мой труп!..» Я никогда не понимал, как можно что-то сделать «через труп». Перешагнуть?.. Или сначала похоронить, а потом уже осуществить задуманное?.. Но материнская угроза подействовала: больше я никогда не заикался о суворовском училище. И, честно говоря, я ей бесконечно благодарен: ведь если бы она согласилась, а отец под большим секретом сказал мне, что устроит меня в Киевское суворовское училище, я бы всю жизнь тянул офицерскую лямку. А эта участь очень горька, и офицерская жизнь по разным гарнизонам через пару лет уже не казалась бы мне такой привлекательной. Разумеется, кроме возможности носить форму.
Мама оберегала меня ото всего, что касалось раздоров в нашей семье. И, странное дело: никто из моих сверстников даже не пытался намекнуть мне на то, что в отношениях между моими родителями не все гладко, а они это наверняка знали, потому что разрыв Веры Антоновны и Глеба Сергеевича был главной темой училищных сплетен и пересудов. Потому и жил я в счастливом неведении. Хотя… Как сказать: в счастливом ли?..
Первым приоткрыл для меня завесу нашей семейной тайны Николай Васильевич Овчинников. Этой осенью он во второй раз приехал в Житомир, чтобы навестить свою сестру, муж которой служил в училище. Для всех ребят его приезд стал самым настоящим праздником. Почему?.. О!.. Это была уникальная, замечательнейшая личность! Он работал в Арктическом институте в Ленинграде, и профессия у него тоже была необычная – полярник. И даже чисто внешне дядя Коля разительно отличался ото всех окружавших нас людей. Высокий, сутулый, с пухом редких волос на продолговатом черепе, очень близорукий, с вечной извиняющейся полуулыбкой на чуть припухлых губах, он производил впечатление человека, как говорится, «с приветом». Наверное, он действительно был немножко «не от мира сего», но именно эта «чокнутость» его нам всем очень нравилась. Его главными друзьями в Богунии были мы – все пацаны училища. Ни мало не смущаясь косых взглядов и змеиного шепота за своей спиной, он проводил с нами все свободное время. А мы, вернувшись из школы и наскоро сделав уроки, стремглав бежали на улицу к «дяде Коле», чтобы расстаться с ним уже затемно, когда разгневанные мамы загоняли нас домой.
Если бы вы могли услышать, как он рассказывал о том, как дрейфовал на льдине в Северном Ледовитом океане, как зимовал на полярной станции восемь месяцев!.. И мы вместе с ним любовались полярным сиянием, отгоняли белых медведей от лагеря, вместе с ним перетаскивали палатки и научное оборудование с одного куска расколовшейся надвое льдины на другой, и долгой полярной ночью, прильнув к приемнику, слушали голоса Большой земли. А на следующий день мы неожиданно из зимовщиков превращались в сыщиков и, отвергнув услуги Шерлока Холмса, самостоятельно пытались разрешить тайну Луисвильского замка на северо-востоке Британии. Не знаю, существует ли такой замок в действительности, но тогда он был реальнее училищной бани, что стояла рядом с курсантской столовой, и все загадочные события XVI века, случившиеся под его мрачными сводами, опять же происходили на наших глазах.
И еще… Кто из вас знает, как с помощью одного только компаса и сломанных веточек на кустах найти в осеннем лесу спрятанный под грудой опавшей листвы моржовый клык? Кто умеет «читать» следы зайца или косули… А мы все это «проходили» под мудрым руководством нашего учителя.
А какой массовый заплыв по речке Каменка дядя Коля устроил поздним октябрьским вечером! Вокруг темнота хоть глаз выколи. Вода такая холодная, что даже подумать страшно о том, что вот сейчас ты должен нырнуть с головой, и, еще не замочив пальцев ног, тебя уже колотит мелкая дрожь от чудовищного озноба. Но дядя Коля не обращает никакого внимания на наши страхи. С криком «За мной!..» он с разбега ныряет в реку. Мы не видим его, но уже через секунду из пугающей темноты слышим, как, отфыркиваясь и шлепая ладонями по поверхности воды, он тонким, но бодрым голосом подбадривает нас: «Хорррошшшо!!!» И мы, стыдясь своей «слабины», с пронзительным визгом горохом сыплемся с берега в жуткую ледяную черноту. В первую секунду вода обжигает тело так, что хочется тут же броситься назад, на берег!.. Но уже в следующее мгновение ты начинаешь ощущать, как по всем твоим жилкам потихоньку начинает разливаться тепло, и уже не хочется вылезать из этой ледяной купели, и удивительное чувство радости, бодрости, счастья само выплескивается наружу, и мы хохочем, бьем по воде руками, поднимая фонтаны редко вспыхивающих в ночной темноте брызг.
Господи!.. Сколько интересных, необыкновенных задач ставил перед нами этот чудесный человек! И с каким удовольствием мы все эти задачи пытались решить! Он сумел так сказочно разнообразить нашу унылую провинциальную жизнь, что память о нем живет во мне до сих пор!..
Не помню, как это получилось, но однажды мы с дядей Колей оказались на берегу Каменки одни. Обычно меньше четырех-пяти ребят рядом с ним не бывало, и вдруг – только он и я. Думаю, это он заранее решил поговорить со мной без посторонних ушей и нарочно все устроил так, чтобы рядом никого не было. Над нами опрокинулось черное безоблачное небо, а по нему рассыпались яркие южные звезды. Было так торжественно-красиво, что душа невольно сжималась перед этим космическим великолепием.
«Ты знаешь, – неожиданно признался мне Николай Васильевич, – никак не могу реально представить, что такое бесконечность». Я был искренне поражен: неужели такой умный человек может чего-то не понимать?! «А ты? – спросил он. – Думал когда-нибудь об этом?» Я растерялся. Никто никогда не говорил со мной… вот так… Не про школьные дела, не про коллекцию фантиков, а вообще… про мироздание… Причем взрослый человек, который втрое старше меня, говорил со мной, пацаном, очень серьезно, уважительно, и в голосе его даже слышались нотки, словно он хотел попросить у меня совета. Что сказать?.. Как ответить?.. И, когда дядя Коля, грустно усмехнувшись, спокойно сказал: «Не хочешь, не говори», я вдруг решился.
Думал!.. Конечно же думал!.. Только не про бесконечность Вселенной, а про время, то есть про вечность. Но ведь, в принципе, это одно и то же? «Конечно», – подбодрил меня дядя Коля, и меня словно прорвало: я ему все рассказал. Все то, о чем стеснялся говорить даже своим родителям.
Впервые мысль о неминуемой смерти обожгла меня в пять с половиной лет. Отец вместе с приятелями вернулся с футбольного матча. Как и все советские офицеры, они болели, конечно, за ЦДКА, в этот вечер их любимая команда выиграла что-то очень важное, по-моему, это был кубок СССР, и мужчины решили отметить столь выдающееся событие. Чтобы я не путался под ногами, меня уложили спать пораньше, мама поставила на стол графинчик с водкой, настоянной на лимонных корочках, и довольные болельщики принялись вспоминать перипетии матча, отмечая каждый забитый гол очередным тостом и закусывая его фирменным маминым винегретом с селедкой. Конечно, о том, чтобы спать, не могло быть и речи. Я лежал с открытыми глазами, не очень прислушиваясь к тому, что говорилось за столом, и думал о своем, сокровенном: как уговорить маму купить мне диапроектор… Как вдруг…
«А зачем он мне? – обожгла неожиданная мысль. – Ведь я умру!.. Нет, не сейчас, потом. Но я обязательно, обязательно умру, и никто меня не спасет!..»
Это было так страшно!.. Я крепко-крепко зажмурил глаза, натянул на голову одеяло и закричал. Мама испугалась, кинулась ко мне: «Сереженька!.. Что с тобой? Страшный сон приснился? Миленький мой!..» Я ничего ей не ответил, еще крепче зажмурил глаза и перевернулся на бок. Мама набросилась на мужчин: «Не можете шепотом разговаривать?.. Вот ребенка разбудили!..» Те тут же пристыженно замолчали и, как по команде, в полном составе ушли на кухню курить. Мама включила настольную лампу, погасила верхний свет, присела на краешек моей кровати, стала нежно гладить меня по голове. Я лежал, не разжимая плотно сжатых век, и хотел только, чтобы меня оставили одного. Мне почему-то казалось, никому нельзя говорить о том, что я узнал минуту назад. Это стало моей страшной тайной на многие годы.
При этом меня страшил не самый факт смерти. Что такое «небытие» в полном смысле этого слова, я, пожалуй, и теперь не очень-то понимаю. Ужас охватывал меня оттого, что это самое «небытие» не имеет конца. Ни через год, ни через сто, ни даже через тысячу лет оно не закончится. НИКОГДА!.. Вот чего я не понимал и с чем ни за что не желал примириться!.. Осенью 1946 года, в день победы ЦДКА в кубке СССР, передо мной, пятилетним мальчишкой, открылась бездонная пропасть вечности.
И вот теперь, через семь долгих лет, на берегу реки Каменка, глядя в усыпанное звездами небо, я открыл дяде Коле свою страшную тайну. Ни до, ни после этого вечера ни с кем я не был так откровенен. И тут случилось то, на что я втайне надеялся, но во что не слишком верил. Николай Васильевич понял меня!.. Я ждал в лучшем случае ироничной ухмылки, а вместо этого встретил серьезный, внимательный взгляд и услышал, как мой учитель горестно вздохнул: «Да, Сережа, это тебе тоже предстоит пережить. До конца свыкнуться с этой мыслью невозможно, но постарайся понять, что в смерти нет такого понятия – время. Та м, куда мы все рано или поздно уйдем, не существует ни завтра, ни послезавтра. Поэтому за гробом тысячелетие и секунда равны. И то и другое – всего лишь миг… Понимаешь?» Честно говоря, я не очень понял, что он имеет в виду, но от того, как он это сказал, на душе стало покойнее и мысль о смерти уже не казалась такой ужасной и безысходной. Утешить до конца дядя Коля меня так и не смог, потому что, как и большинство граждан Советского Союза, не верил в Бога, но я был благодарен ему и за эти несколько успокаивающих слов, которые он сумел найти для меня.
Потом мы долго сидели и молчали. О чем думал Николай Васильевич, я не знаю, но мне было гордо от сознания того, что этот взрослый, умный человек с таким уважением отнесся к тому, что ему открыл двенадцатилетний пацан.
«Сережа, – первым нарушил молчание дядя Коля, – а ты знаешь, что в семье у вас назревают серьезные перемены?..» – «Какие перемены?» – удивился я. «Неужели мама ничего тебе не говорила?..» – «Ничего. А что она должна была мне сказать?» Дядя Коля промычал что-то не слишком членораздельное. Видно было, ситуация, в которой он оказался, была достаточно щекотлива. «Прости… Дело в том… Как тебе объяснить?.. Одним словом, у Глеба Сергеевича есть другая женщина… Я думал, ты в курсе…»
Я был совершенно не в курсе, но одно могу сказать: сообщение это меня не очень-то удивило. В вопросах интимных отношений между мужчиной и женщиной мы, богунская пацанва, были образованны гораздо лучше, чем наши столичные сверстники, поскольку жизнь наших родителей протекала у нас на глазах. Что-либо скрыть в тесном пространстве военного городка невозможно, и неудивительно, что «романы» взрослых в нашей дворовой компании не являлись тайной. Частенько кто-нибудь из наших доморощенных остряков ехидно подзуживал одного из нас: «Вон, смотри, твой второй папа идет!» Или: «А тебя поздравить можно? У вас в семье, говорят, вторая мама появилась?..» Скандалы по части супружеской неверности случались крайне редко, и родительские измены считались в нашей среде чем-то обыденным и привычным. Большинство офицерского состава училища прошло войну, где вопросы высокой морали находились где-то очень далеко. Не на втором даже, а на каком-нибудь десятом или двадцатом плане. Ведь все они были очень молоды, и угроза быть убитым завтра или послезавтра освобождала ребят от необходимости хранить верность оставленным в тылу подругам. Много позже отец признавался, что на фронте любая возможность интимной близости воспринималась всеми как подарок судьбы, от которого грех отказываться. Может быть, именно поэтому лучший друг Толя Смоляницкий не счел нужным обсуждать со мной наши семейные проблемы. Зачем?.. Ведь это такая банальность!..
Но именно эта «банальность» ударила по моему душевному благополучию, и прежде всего по самолюбию «сына начальника училища», очень больно. В одночасье генеральский сынок превратился в обыкновенного мальчишку, которого бросил отец. Благодарю Провидение за то, что довелось мне испытать, что такое крушение жалкого честолюбия и каково это – падать с заоблачных высот на грешную землю. Удар был такой силы – на всю оставшуюся жизнь хватило.
Я уже писал, что в феврале 54-го года мы с мамой и Борей поехали в Москву. Мама подала апелляцию в Верховный суд СССР с просьбой отменить решение Верховного суда Украины о ее разводе с отцом. И в ожидании ответа из столь высокой инстанции мы проводили время в столице как туристы. Прежде всего сходили в цирк. Посетили бывший Английский клуб на улице Горького, который переименовали в Музей революции, и осмотрели выставку подарков И.В. Сталину в честь его семидесятилетия. Умилились искусству одной женщины, которая на пшеничном зерне сумела написать то ли письмо вождю, то ли Гимн Советского Союза. А чего стоил ковер, который выткала для любимого Иосифа Виссарионовича какая-то узбечка. У нее не было рук, и как она сумела при помощи пальцев ног сотворить подобную красоту, понять было трудно. В остальном же выставка подарков не произвела на нас сногсшибательного впечатления, и мы вышли оттуда разочарованными.
Во время визита к маминой подруге тете Зине я у ее соседей впервые сумел посмотреть телевизор. Назывался он «КВН-49», и экранчик у него был маленький, чуть ли не 10 см по диагонали, но фильм-то по этому волшебному ящику показывали настоящий. Через 10 минут ты забывал о размерах экрана и целиком отдавался интриге кинокартины. В тот вечер показывали «РВС» по повести А. Гайдара.
Но главное – мы совершили экскурсию в ГУМ, который открыли буквально накануне нашего приезда. Такого магазина я никогда прежде не видел. И не беда, что мы ничего там не купили, хотя Боря был готов устроить маме небольшой «концерт». Важно было то, что я гулял по улицам самого большого универмага мира. И вдруг, посреди этого счастья, на меня свалилась чудовищная новость: я перестал быть «сыном начальника училища»!.. Приятная прогулка по московским достопримечательностям моментально превратилась для меня в мучительное ожидание позора по возвращении в Житомир. Но это было еще не все!.. Вдобавок ко всему…
Не помню, от кого я узнал, что у отца есть еще один сын, которого тоже зовут Глеб и с которым Глеб Сергеевич живет на съемной квартире в городе и поэтому видится гораздо чаще, чем с нами – его родными детьми. Узнав эту чудовищную новость, я на себе испытал, каково это, когда на человека нежданно-негаданно обрушивается самое настоящее несчастье. Оказалось, отец не просто разводится с мамой, а бросает нас с Борькой ради какого-то Глеба, случайно прижитого им с любовницей, которая и мизинца маминого не стоит!.. Как!.. Почему? За что?!
Это несправедливо! Этого… не должно быть!
До сих пор отчетливо помню, какие душевные муки я тогда испытал.
Вечером, накануне отъезда в Ригу, я написал отцу прощальное письмо. В тот момент мне казалось, расстаемся мы навсегда, и я постарался выплеснуть на бумагу всю горечь, которая переполняла мою душу. И главной целью моей конечно же было сделать отцу больно, очень больно, когда он станет читать мое «послание». Я не помню дословно текст того письма, но одна фраза врезалась мне в память крепко-накрепко: «…и когда ты будешь целовать своего сына, постарайся вспомнить о детях, брошенных тобой». Я страшно обрадовался, придумав эту фразу, и с наслаждением представлял, как отцу станет не по себе и всякий раз, обнимая Глеба, он будет вспоминать ее и мучиться от сожаления и стыда.
Запечатав письмо в конверт и надписав на нем: «Папе от сына», я вдруг ясно осознал: беззаботное детство мое закончилось. Наступила пора, которую взрослые называют не слишком благозвучным словом… Отрочество.